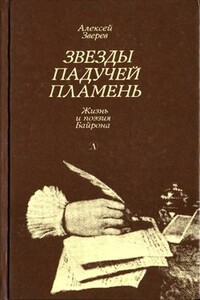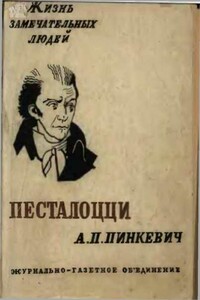Набоков | страница 93
«Полюс» был навеян реальными событиями, гибелью в снегах Антарктиды английской экспедиции Роберта Скотта на обратном пути с Южного полюса, где уже побывал знаменитый норвежец Амундсен. Дневники Скотта, переданные в Британский музей, были прочитаны Набоковым, который кое-что оттуда позаимствовал для достоверности деталей. Однако история, случившаяся в 1912 году, осталась только внешней рамкой, в которую заключены авторские размышления о том, как нестерпимо — «до бешенства, до боли» — хочется жить в минуты, когда совсем рядом смерть: «стеклянный вход… вода… вода… все ясно» (то были последние слова бабушки Набокова по матери П. Тарновской, той, что не понравилась Чехову). И размышления о бесцельности земных стремлений. Отдав последний долг почти всем своим спутникам, капитан вспоминает о Колумбе, который тоже страдал, но хотя бы
О настроениях Набокова в его первые берлинские годы трудно было сказать выразительнее.
Меж тем жизнь продолжалась, и он был молод. Одинок и молод, хотя одиночеству подходил конец.
Берлин оставался для Набокова глубоко чужим городом. Так и до него воспринимали немецкую столицу, вообще Германию многие русские. Чехов пишет сестре из Баденвейлера за несколько недель до смерти: «Я живу среди немцев, уже привык и к комнате своей и к режиму, но никак не могу привыкнуть к немецкой тишине и спокойствию. В доме и вне дома ни звука, только в 7 час. утра и в полдень играет в саду музыка, дорогая, но очень бездарная. Не чувствую ни одной капли таланта ни в чем, ни одной капли вкуса, но зато порядок и честность, хоть отбавляй». Впечатления Набокова были примерно такими же. Только вряд ли у него нашлись бы причины добавить, следуя Чехову: «Наша русская жизнь гораздо талантливее…»
Та русская жизнь, которую он, в основном, видел вокруг себя, перемещаясь из пансиона в пансион, такого определения явно не заслуживала. Берлин был перенаселен эмигрантами из России, пока новый всплеск инфляции не заставил их разъехаться кого куда: одних в Париж, других, привлеченных пенсиями, которые платило чешское правительство, — в Прагу, третьих домой: возвращались не то с надеждами, не то скрепя сердце. К середине 20-х годов русская колония заметно опустела. Многие издательские дома и журналы закрылись, газет стало меньше, возможностей зарабатывать уроками тоже. И потянулись унылые дни, заполненные поисками какого-нибудь заработка да тоскливыми разговорами про то, что берлинское лето невыносимо, а денег, чтобы хоть на неделю куда-то съездить, нет и не предвидится. Скучное пережевывание одних и тех же невеселых новостей требовало передышек. Ими становились вылазки за город, в сосновый лес у озера, источавшего тяжелый запах непроточной, превратившейся в большую помойку воды. Но там по крайней мере можно было, отыскав местечко, куда не добрались раскормленные немецкие матроны в нижнем белье, растянуться на сером песке и немножко позагорать. На бульварах, в садиках с чахлыми кустиками скамейки были заняты бледными юнцами, которые, расстегнув рубашки, подставляли солнцу прыщавую грудь.