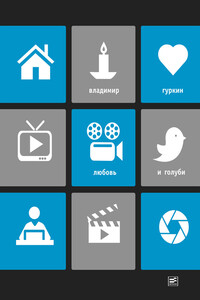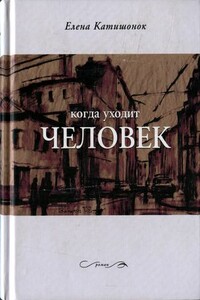Обще-житие | страница 44
— А, а! Не нравится правда-то! Не нра-а-авится! В сорок пятую шлялся, стало быть, к Маневич этой! Вот они, скромницы-то, мамины дочки, в подолах и приносют, сами не знат от кого! Фамилие твое счас посмотрим.
Не помня себя, Самохвалов вырвал из рук этой твари свой студенческий билет и в ярости разодрал. Мерзкая баба догнала его в дверях и, мстительно вереща, сорвала с него шапку. Долго не мог он успокоиться, по дороге к метро нагибался, лепил жесткие снежки и злобно метал в черные стволы деревьев. На другой день Леля позвонила ему домой и дрожащими губами рассказала, что ночью вахтершу разбил удар — прямо в ее будке. Отнялась левая рука, она старалась что-то сказать, но изо рта вырывались только слюни и «мгу-нгу-бу». Разумеется, между этими событиями была связь, и любой врач мог бы легко объяснить инсульт повышением давления после скандала с ухмыляющимся тем, долговязым. Но Самохвалов, все отлично понимая про давление, каким-то образом точно знал, что не сам скандал, а именно его раскаленная ярость была тому причиной. Естественно, он ни с кем не делился этой весьма сомнительной по любым меркам уверенностью, но чувствовал себя отменно паршиво, почти убийцей. Не мог больше заглядывать в то общежитие, даже по улице той ходить избегал. Отношения с Лелей тоже потускнели и сошли на нет. Года два спустя он встретил ее в кинотеатре. С ней был высокий лейтенант со странно знакомым лицом. Она кивнула, покраснела и стала с фальшивой горячностью что-то говорить своему спутнику. Кого же напоминал Самохвалову этот незнакомый военный? Кого же, кого? Господи! — да конечно же, его самого! Невольно секрет свой Леля ему открыла. Они сидели на несколько рядов впереди и Леля поминутно оглядывалась. Самохвалов на цыпочках вышел с середины сеанса и тихо пошел пешком под мелким снежком, хоть его троллейбус, которого, когда надо ждешь не дождешься, стоял на остановке и, дразня, никак не желал закрывать двери.
Один случай из ряда подобных был и вовсе смешной, хотя Самохвалову, поверьте, было не до смеха. В то лето он выбрался, наконец, в Ленинград навестить тетку. Тетка хлопотала, жарила бараний бок, пекла «наполеон» о восьми слоях, доставала с переплатой билеты в театр, знакомила с незамужними дочками своих подруг — она не любила жену Самохвалова Люсю, звала ее трясогузкой. Чтобы доставить не избалованной жизнью тетке приятное, Самохвалов повел ее с мужем в ресторан. Выбрал ресторанчик-поплавок на Неве — такой белый, такой свежий в эту приключившуюся в честь его приезда ленинградскую жару. Прохладно посверкивала речная голубизна сквозь ясно промытые стекла, и серебряные отблески волн текли, ныряя, по переборчатому корабельному потолку. В таком месте хочется быть молодым, веселым, щедрым и заказывать рыбное. Самохвалов размахнулся на салат «весна», осетрину по-московски, «Напареули». В винах он не разбирался, предпочитая, если уж такой случай, водку на лимонной корочке. Но тетка водку отродясь не пила, а слово «Напареули» звучало дивно, как свирель. Раскормленный, задастый, с масляной мордой ресторанный молодец не нес заказ минут сорок, хоть по дневному и буднему времени кроме них в зале сидела лишь молоденькая пара с отчаянно блестящими, новехонькими обручальными кольцами и сбитая компания из трех мужчин того сорта, про которых хочется говорить «обделывают делишки». Вино оказалось беззастенчиво разбавленным (даже профан Самохвалов понял) и припахивало бензином, а «фирменная» осетрина по-московски была менее всего осетриной. Деликатные тетка с мужем не показывали виду и старались вести себя по-светски. Празднично и неумело рассуждали о театре, о выставке портрета в Русском музее, хотя у себя дома говорили исключительно о разводе дочери Натуськи с «этим негодяем» и предстоящем размене квартиры.