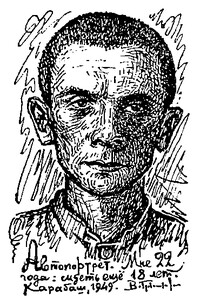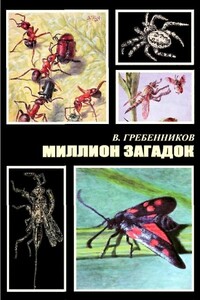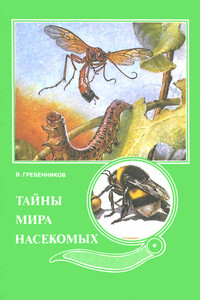Письма внуку. Книга 2: Ночь в Емонтаеве | страница 14
V. Писать же «для себя», а не по заданию учителей, я начал пробовать поздно, годам в шестнадцати, а ведь это нужно делать уже в десять лет — дневники, письма, заметки, любая «писанина» оттачивают перо, развивают ум, заставляют подражать великим и в стиле изложения, и в жанре, и в премногом ином. Сейчас очень трудно вычленить тех, у кого я учился писать. Благоговел перед Лермонтовым, зачитывался Гоголем, лучше из абзацев которого так походили на стихи, что я потом, уже пишущий, не стыдился в меру своих скромных сил ему подражать; восторгался Чеховым; Куперы-Буссенары-Конандойли-Уэллсы-Джеклондоны мелькали страница за страницей, будя фантастическое воображение и перенося меня в неведомые страны, но не влияя на стиль и слог письма; в целом поглощено преогромное количество чтива, из коего, скажем, те же «Мёртвые души» перечитаны не менее десятка раз, а весь доступный мне Джек Лондон — раза четыре. Ну а из живых преподавателей как тут не вспомнить учительницу литературы старших классов Исилькульской средней школы № 1 Омской области Лидию Георгиевну Градобоеву, сумевшую свой восторг творениями великих российских писателей передать мне до такой превысокой степени, что после каждого моего сочинения она после цифровой и письменной оценки ставила еще и три восклицательных крупных знака, и это выглядело так: 5 — отлично!!! Потом я писал лишь письма друзьям, да отчёты по малярийной станции, в коей работал; в уральских тюрьмах-лагерях, о коих мною будет рассказано в своё время, учителей литературы у меня, разумеется, не было (зато был учитель живописи); писательствовать же я начал — а это уже были научно-популярные сочинения о мире живых существ — в начале шестидесятых, в Исилькуле; послал что-то в журнал «Юный натуралист» — напечатали; послал на Омское радио — приняли и прочли; послал в омскую газету «Молодой сибиряк» — напечатали; часто отдавал свои заметки об искусстве, о живых тварях и прочем преинтересном, в исилькульскую районную газетку, в каковой не стыжусь печататься и до сего дня — зовётся она «Знамя». Немало ценных советов по писательству дали мне омские молодые тогда журналисты Лёша Пахомов и Виталик Попов (оба, увы, давно покойники из-за водки); более серьёзные и глубокие практические правила книгописания преподал мне омский же писатель и журналист Пётр Николаевич Ребрин, известный тогда своими повестями о всяких колхозных и деревенских делах; обо всех этих достойнейших людях у меня остались самые светлые и тёплые воспоминания за часы, отданные ими мне бескорыстно. Когда же, после первых моих книжек, писательский труд, что называется, вошёл в мой быт, я стал замечать, что пишется мне продуктивно и дельно далеко не всегда и далеко не везде. В частности, к писательству я уже намеренно прибегал тогда, когда меня задавливало множество неприятностей, связанных с другими моими ипостасями и обязанностями, о коих будет рассказано после; страницы, родившиеся именно в часы всяческого скотства со стороны негодяев, начальников и завистников по отношению ко мне, моим близким, моим творениям, всегда, как ни странно, получались много лучше и краше написанных в иное время; на этот случай есть подходящая весьма поговорка, что де нет худа без добра.