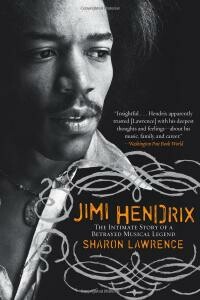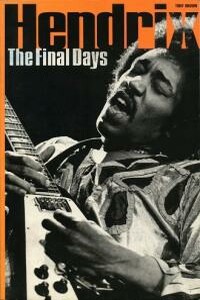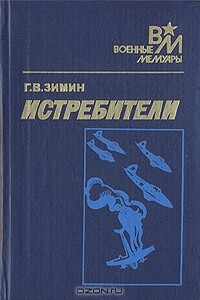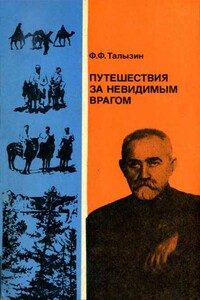Письма внуку. Книга 2: Ночь в Емонтаеве | страница 10
VI. А где-то далеко-предалеко сзади, ещё южнее Симферополя, находится теперь уже совсем недосягаемый Севастополь, где теперь, окончательно отторгнутый от семьи, остаётся мой единственный старший брат Толя, который работает там на судоремонтном заводе, что на Корабельной стороне, как до сих пор называется эта часть города российской немеркнущей славы; неужели я его теперь не увижу, своего прелюбимого брата; что же, что делать? Может быть, мне перед самым отъездом следовало сбежать из дома, отсидеться с месяц у каких-нибудь друзей, а потом податься на какую-либо работу, как это сделал брат, которому не хватило средств на существование в авиастроительном техникуме в Севастополе, куда он поступил после семилетки (родители его не любили и не помогали, ибо любимцем был я)? Увы, теперь это невозможно; знакомый уже хриплый гудок возвестил об отбытии поезда дальше, на север, к Москве, ибо более короткого пути от нас в Казахстан тогда не было. Возбужденный, улыбающийся отец появился в вагонном проходе, неся купленную на запорожском перроне некую снедь — не то горячие пирожки, не то пончики; эх, Степан Иванович, что же ты такое дичайше неразумное натворил-наделал со своим золотовибратором, своею тягой к странствиям! — так заканчивалась глава 30-я первого тома моих к тебе писем, дорогой внук; отличия этой главы от той — разве что в стилистике; читать это, может быть, чуть труднее, в частности оттого, что исчезли абзацы; что за причуда дедушки, — спросишь ты, — экономия бумаги? — не только, дружок, не только; впрочем, всякому овощу своё время, и я после надеюсь объяснить тебе эти и некоторые иные причуды, если только это причуды; ну а пока до следующего к тебе письма, мой юный друг: мне так много ещё надлежит тебе рассказать!
Письмо тридцать четвёртое:
В ПУТИ
I. Стучат ритмично колеса нашего вагона на стыках рельсов, проплывают мимо неведомые местности со скошенными нивами, дорогами, осенними рощами, колхозными металлическими ветряками с множеством узких одинаковых крылышек и длинным железным же хвостом-флюгером, направляющим механизм к ветру — так поднимали в те годы из скважин воду во многих местностях нашей страны. Здесь, хотя мы уже несколько севернее Крыма, почему-то ещё не чувствуется октября, голубеет ясное небо, а деревья стоят в густом осеннем этаком золоте; телефонные провода, видимые за вагонным окном многожилисто-объёмным пучком, медленно уходят вниз, затем плавно поднимаются вверх, сначала еле заметно, а потом быстро, и мимо проплывает телеграфный столб со множеством белых изоляторов на множестве же поперечин, прикреплённых к столбу; здесь все провода, последний раз подпрыгнув вверх, сразу забирают вниз, и в окне повторяется прежняя подвижная картина, разнообразящаяся тем, что на верхушке столба сидит то кобчик, то громадный орёл, не улетевший ещё на юг; под самыми проводами мелькает, явно пытаясь догнать наш поезд, красивая птица сизоворонка, и догнала бы, но полёт у неё очень уж неровный, игривый, с этакими её бросками в сторону и радостными кувырканиями, будто голубовато-зелёный платок с золотистым пятном кто-то привязал на длинной невидимой бечёвке к паровозу, и поддёргивает для развлечения эту бечеву на ходу; но вот сизоворонке надоедает эта игра и она отстает; вдалеке плывёт неведомое село с церковью и стройной сероватой колокольней, точь-в-точь как на виденной где-то картине (у нас в Крыму деревянных строений не было); с грохотом проносится по соседнему пути встречный поезд, и долго ещё крупные частицы угля с паровозным сизо-чёрным дымом влетают в наш вагон, хотя окна уже закрыты, ибо снаружи очень прохладно. Там, впереди, незнакомые, но вовсе мне не нужные города Харьков, Орел, Курск, неинтересные мне только лишь потому, что это не милый мой Крым, не дорогой мне Симферополь, и мне опять хочется плакать, и на ум идут стихи, а стихи я тогда очень любил (это сейчас я к ним равнодушен и не запоминаю) и выучивал с первого же прочтения: «Дубовый листок оторвался от ветки родимой», «О скоро ль вас увижу вновь, брега весёлые Салгира» (Салгир — река моего детства, текла совсем близко от нашего Дома, узенькая, но тогда чистая-чистая), «Прощай же море, не забуду твоей торжественной красы, и долго-долго помнить буду твой гул в вечерние часы», хотя море мне доводилось видеть не так и часто, ибо Город мой находился в полусотне километров от этого самого южного из наших российских морей. Тем не менее я и сейчас утверждаю, что красивее моего родного Чёрного моря нет и быть не может во всем нашем мире, и что даже великому Айвазовскому не удалось отобразить в полной мере его сказочные божественные красоты, непревзойдённую величественность и некую особую свою таинственность, каковую, возможно, лишь я один заметил, но, не став художником-маринистом, так и не воплотил на холстах, а если бы стал таковым, то писал бы родное Море своим особеннейшим образом, весьма отличным от других маринистов, и далеко бы их превзошел; я так думал даже маленьким, а сейчас почти даже уверен в этом, но меня ждала какая-то другая, неведомая мне тогда, судьба.