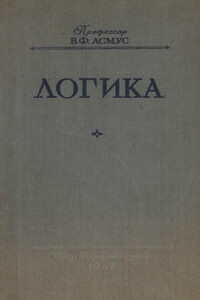Диалектика необходимости и свободы в философии истории Гегеля | страница 11
Введением историзма в понятие свободы исчерпывается у Фихте то новое, что он внес в развитие проблемы. В остальном его мысль направляется по уже исхоженным путям универсального детерминизма, сведения свободы к необходимости.
Понятая лишь как созерцательное познание необходимости, свобода исключает, по Фихте, активность участника исторического процесса. Фихте подсекает в корне всякую надежду на то, будто личные усилия и личные действия человека могут что бы то ни было изменить в истории — по крайней мере в значительной степени. Отдельному лицу действительность, строго говоря, недоступна; его удел — пассивное и покорное повиновение вечному духу времени: «Именно в том и состоит сладчайшая награда философского рассмотрения,— писал Фихте,— что, постигая все в общей связи и ничего не оставляя обособленным, оно признает все необходимым и потому благим и примиряется со всем существующим, как оно существует. Никто более философа не далек от той иллюзии, будто его время продвинется вперед в весьма заметной степени именно благодаря его стремлению ... Действенная роль принадлежит только всеобщему объединению и особенно сокровенно живущему вечному духу времен и миров» (Основные черты современной эпохи. С. 12—13). Фихте сделал попытку начертать схему всемирно-исторического развития общества в свете своей диалектики необходимости и свободы, т. е. подчинения поведения индивида «идее» рода. Но схема эта абстрактна и скудна именно в своем историческом содержании. На самой ранней ступени исторического развития человечества «идея» проявляется как эстетическая идея, или изящное искусство; далее — как мировая социальная идея, как источник героизма и творческая причина правового порядка; еще далее — как научная идея, направленная на построение из мысли и в мысли всей вселенной; и, наконец, в наиболее всеобщей форме — как идея религиозная, которую Фихте понимает, однако, лишь как сознательное слияние всякой индивидуальной жизни с единым и абсолютным «божественным» бытием. И он разъясняет, что подлинно свободной и обнимающей всю жизнь рода «идея» (или «чистая мысль») бывает не тогда, когда человек «становится художником, героем, человеком науки или религии» (Ibid. С. 107), но лишь тогда, когда «идея», определяющая его поведение, «есть единая, ясная в себе и прозрачная мысль науки разума»... (Ibid.).
V
В ряду предтеч Гегеля по вопросу о необходимости и свободе последнее крупное явление — Шеллинг. В его теории свободы своеобразно сплетаются мысли, ведущие от стоиков, от Спинозы, от Канта и от Фихте. Но их соединение — не эклектическое. Шеллинг — мощный ум, оригинально сплавляющий элементы мысли, на которые опирается и которые он черпает у своих предшественников.