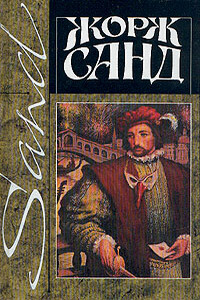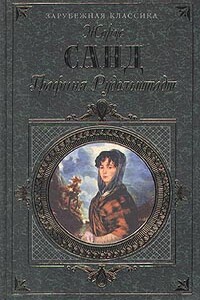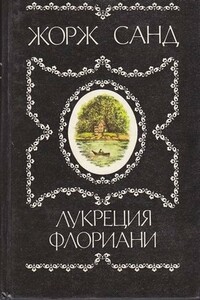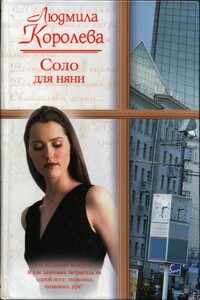Кора | страница 16
Но как благодарил я небо за то, что оно обрекло его на столь низменное существование и, казалось, вовсе лишило милости, которой он не был достоин, милости любоваться своей нежной спутницей при свете дня. Ему дозволялось возвращаться к ней лишь в тот час, когда совы и летучие мыши начинают свой сумрачный полет и беззвучным крылом прорезают мглистые клубы тумана. Он являлся в темноте, как тать в нощи, как злобный косолапый гном, как вечерний холодный ветер, как обманчивый болотный огонь. Он появлялся мрачной печальной тенью, облаченный в халат, напоминавший саван, источая аромат пахучего вещества, что возжигают у катафалков. Как-то я встретил его, пробирающегося в сумерках, скользящего подобно призраку вдоль синеватых стен. Несколько раз я сталкивался с ним у порога и готов был раздавить в канаве, как земляного червя, однако я его не трогал, ибо шея у него и в самом деле была бычья, а я после болезни совсем ослабел и казался почти прозрачным.
Кора, вдовствующая каждодневно с рассвета до сумерек, мне вполне доверяла. Почти все время я проводил, сидя в старом фамильном кресле, или же усаживался, когда апрельское солнце начинало припекать, на каменную скамью, стоявшую прямо под ее окном. Там, отделенный от нее лишь золотистыми ветками желтофиолей, я впивал в запахе цветов и ее дыхание, я ловил ее долгий спокойный взгляд, чистый, подобно морю без ряби у берегов Греции. Мы оба хранили молчание, но сердце мое взывало и алкало с неистовой силой, могущества которой она не могла не почувствовать. С этой сладостной мечтой я засыпал. Почему же Коре было не полюбить меня? Нет, может быть, следовало сказать: как могло статься, что она не полюбила меня? Ведь я любил ее так безумно, все мои душевные способности были устремлены к тому, чтобы пробудить в Коре непреодолимые желания и надежду, которая бы властвовала над нею. Ее душа, сотворенная из прекраснейшего луча господня, могла ли она остаться бесчувственной, увлекаемая магнетическим полетом этой пылающей мысли? И я чувствовал, что сердце мое так чисто, желания мои так целомудренны, что больше уж не боялся оскорбить Кору, открывшись ей. И тогда я заговорил с ней языком небес, языком, внятным только поэтическим душам. Я открыл ей невыносимые мучения и святые страдания моей любви. Я рассказал ей о своих мечтах и своих видениях, о тысячах стихотворений, об александрийских строфах, которые я слагал для нее. И мне выпало счастье увидеть, как она, внимательная и покорная, склонилась ко мне, оставив свою книгу, тронутая моими словами, ибо эти слова имели для нее новый смысл, вселяя в ее ум высокие мысли, которых он доселе не осмеливался коснуться.