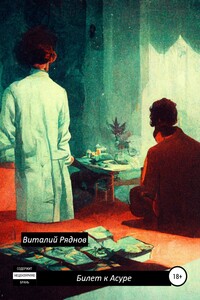Дондог | страница 111
— Твоя подружка, это ведь библиотекарша? — повторил Штернхаген.
Я воспринимал только половину того, что они говорили, а если напрягался, то понимал еще меньше.
— Да, — сказал Мальчуган. — Все изменилось. Теперь это библиотекарша.
— Вот и хорошо, — сказал Штернхаген. — Отдашь мне ее на зиму.
— Да, — сказал Мальчуган.
— Такова цена, — сказал Штернхаген.
Они курили, рассматривая сквозь ветви облака, они избегали встречаться взглядом, и однако казалось, что им достаточно покойно друг с другом.
— Идет, — сказал Мальчуган. — Но весной я заберу ее назад.
— Если сочтешь, что она того еще стоит, — сказал Штернхаген.
Тень вконец посинела.
Я принялся барабанить по еловой коре. Элиана. Всхлип. Шюст. Всхлип. Я расколошматил кулаки о твердые складки и трещины коры. Я метался. Я не слишком хорошо уловил, что они говорили, разве что десятую долю. Понял только, что Джоган Штернхаген отымеет Элиану Шюст прежде, чем я, и это вызвало во мне полный раздрай, и по мере того, как я колотил по дереву, он превратился в отчаяние.
13
Монолог Дондога
Когда лагерная система обрела универсальность, нас перестало неотвязно преследовать стремление к побегу. Внешний мир стал неким невероятным пространством, грезить о нем перестали даже самые неуравновешенные таркаши; попытки к бегству осуществлялись скрепя сердце, в минуты растерянности, и ни к чему не приводили. И годы начали постепенно сцепляться один за одним, наверняка чуть-чуть отличаясь друг от друга, но чем именно, вспомнить не берусь. Ржавела колючая проволока, заставы впредь пребывали нараспашку, ветшали и рушились дозорные башни. Переводы совершались без конвоя. Для искателей новизны настоящие перспективы отныне могла открыть разве что смерть. И тогда стало как-то уютнее в своей собственной шкуре — и не только в ней.
Каждый из нас словно бы нашел наконец оправдание собственному существованию. Все шло своим чередом, чтобы это изменилось, достаточно было дождаться своей кончины. На самом деле в моем случае надежду слегка гасило ощущение потерянной памяти. Я был склонен полагать, что в конце пути утрата памяти послужит мне помехой и, скончавшись, я не буду знать, что делать. Я цеплялся за планы мести, дабы сохранить желание до этого дожить, но меня не оставлял страх, что в нужный момент я не буду знать, как за себя отомстить и кому. В отличие от своих солагерников я абсолютно не был уверен, что смерть хоть в чем-то преобразит мою судьбу к лучшему. Я продвигался в этом направлении, не зная с полной уверенностью имен, лиц и истории тех, кто был убит и чьих убийц я все же намеревался наказать. Что же касается самих подлежащих истреблению преступников, о них я просто всё забыл.