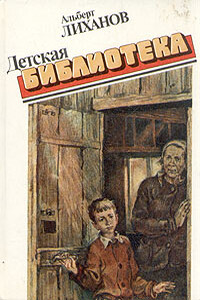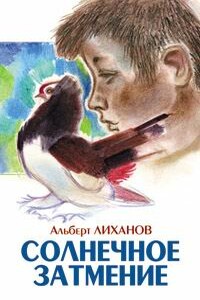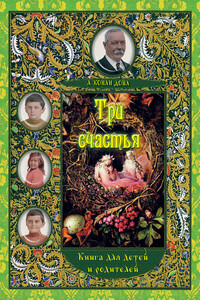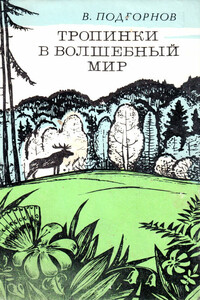Те, кто до нас | страница 29
— Ваш сын капо! А вы — недорезанный буржуй!
И требовали:
— Уберите ваш рояль! Куда? Да хоть в сугроб, а то мы и сами, понимаете?
— Что за люди? — возмущались наперебой мама и бабушка. — Ведь сами пережили неизвестно что, доктор потеснился, добровольно пустил их, и вот тебе — благодарность! Как можно!
Доктор едва не плакал от унижения.
— Капо, — спросил он бабушку. — Это что?
Но она не слыхивала и теперь обращалась к нам, но откуда же нам было это знать, например, мне.
— Война все, война! — кивала мама, но сама же себе противоречила. — Говорят, война все спишет, Но неужели и подлость спишет?
Через день она узнала, что капо — это надзиратель в немецком лагере. Им становится человек из своих пленных. Но этот, из пленных, должен отличаться жестокостью, должен служить лагерной охране.
Но бабушка не сдавалась.
— Откуда эти-то могут знать? — ворчала она, вдевая нитку в иголку. — Унизить стараются, все из зависти своей, — говорила сама себе, помешивая ложкой завариху. — А сами-то — кто? Грязнули, неумехи, приживалки! Чертежницы какие-то да машинистки!
Дошел смысл слова «капо», похоже, и до доктора. Бабушка говорила, что нарочно заходит к нему лишний раз, без всякого дела. Боится, как бы не наложил он на себя руки, хотя умом знает, что этого не произойдет.
— Во-первых, жена, — говорила, — во-вторых, сын. Или наоборот.
Доктор, говорила бабушка, исхудал и почернел. В чем душа только держится. С утра уходит в госпиталь, а потом в больницу к жене и возвращается поздно. Бабушка топила печь в полном одиночестве. Так и заслонку закрывала, не дождавшись хозяина.
Раз или два к ней приступали нижние жилицы, уже не признававшие в ней общественную представительницу, а оттого говорившие дерзко, с вызовом.
— Вот стоит нам написать на него, что он власть ругает, сразу весь дом освободится, — каркала одна, самая старая и растрепанная.
Бабушка от этих речей не терялась — была она у нас остра на язык, да и находчива. Стращала в ответ, по-своему:
— А не боишься? — отвечала.
— Чего-о? — топорщилась патлатая.
— Да хоть бы меня! А вдруг как я напишу про эти твои помыслы! Опережу тебя-то! А совести своей не боишься? Думаешь, она у тебя померла в эвакуации-то? Не померла! Заснула! А вдруг как проснется?
И двигалась, гордая, к своим верхним печкам. Вечером же, после пересказа событий дня, заключала:
— Эти не страшны. Ржавчина! Война пройдет, потеплеет, с песочком отдраим.
— А кто страшен? — спрашивал я.
Она умолкала. Однажды ответила: