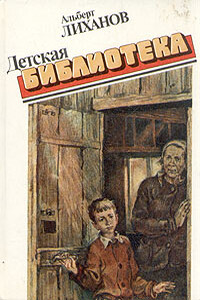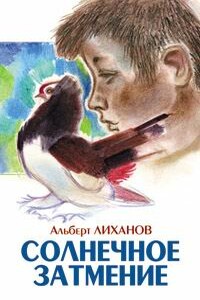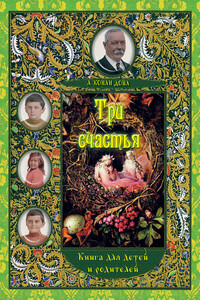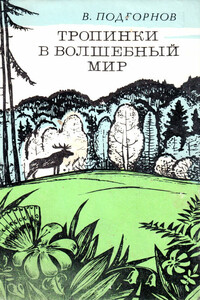Те, кто до нас | страница 21
Может, самое главное. Та самая милость?
Снова спрашиваю себя — думал ли я так в те свои невеликие годы? Конечно, нет! Но чувствовал — это точно! Чувствовал нутром — ясно и определенно.
Настучавшись буфетными дверками, мама сказала, ни к кому не обращаясь:
— Скажите доктору, что это в больницу, его жене. — И добавила, помолчав: — А то еще не возьмет.
Тут некоторые удивятся. Как же так, спросят, за лечение больного малыша доктор брал, и даже деньгами. И вдруг не возьмет.
Да в том-то и дело, что вдруг.
Вдруг случилась война. Вдруг пришла беда, голод, карточки. И вдруг что-то сделалось с людьми. Одни, хвалившие жизнь, погибали, страшась, конечно же, — разве не страшно умирать? Другие, ругавшие жизнь, прятались от гибели. Живший в просторном доме подвигался, уступая место тем, кому некуда деться. Доктор, бравший гонорар за лечение, оказавшись голодным, мог отказаться от гостинца с едой. Разве вот для больной жены примет.
Да, выходит, не надо думать, что война — только беда. Война вроде как чан с кипятком, и все до единого в него прыгают. Люди гибнут, и тоска о них бесконечна и неизбывна. Но люди еще и выбираются из котла. Одни — навек предавшие. Самих себя. Другие — омытые, очищенные, посильневшие, как Иванушка со своим Коньком-Горбунком.
Военная беда — это горе и боль. Но еще горькое, да лекарство.
Впрочем, легко рассуждать, если война позади. И много-много лет прошло, как она закончилась.
А если она гремит и убивает, не щадя ничего?
13
В дом Николая Евлампиевича я вступил во второй раз и удивился точности бабушкиных описаний.
Фанерная перегородка уродовала прихожую, скрывая лестницу на второй этаж, и ступеньки ее уже не покрывала голубая ковровая дорожка. Оставшаяся часть прихожей была заставлена самодельными столиками, на которых гудели примусы, распространяя бедные запахи общественной столовой, а возле них суетливо передвигались три тетки разных возрастов, которые, завидев нас, загоготали между собой, будто гагары, снисходительно кивнули бабушке и тотчас повернулись к нам спинами.
Мы повесили наши пальтишки на вертлявые гвоздики, неумело, женской рукой вбитые в фанеру, поднялись вверх, и я замер, уже воочию поразившись переменам.
Пушистых ковров на паркетном полу больше не было, а паркетины возле стены, метра, наверное, на полтора в ширину, были отодранны и валялись грудой возле печи. И объяснять не надо, что ими топят, когда нету дров. Кафельная печка посредине верхней залы до войны казалась мне сверкающе-белой, теперь сверкание исчезло: лаковые плиты то ли покрылись серым налетом гари, то ли просто посинели от окружавшей тоски.