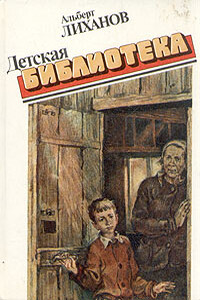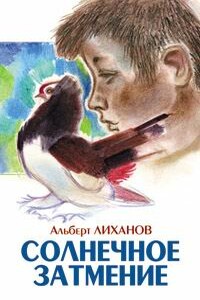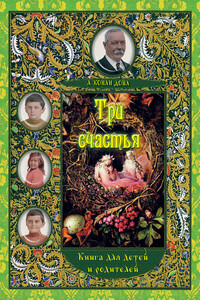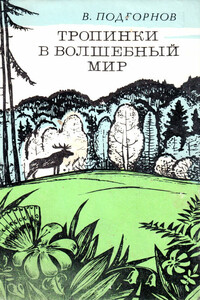Те, кто до нас | страница 18
Мы двинулись своими путями.
Я побежал домой, бабушка в дом к Николаю Евлампиевичу.
Я подскакивал, размахивал сумкой, мурлыкал что-то несвязное — гремела во мне музыка, но без всяких там барабанов и прочих ударных — а струился во мне серебряный голос то ли скрипки, то ли свирели — нежный, протяжный, поднимающий вверх.
Не очень-то я догадывался, что эту музыку не морозец, не закуржавелые деревья, не коричневые стены домов и даже не дымки, уходящие в небеса, сочинили, а моя бабуленция, тащившая полные санки дров бедному доктору, у которого болеет жена. И бабушка, как я тоже, увидела, наверное, сегодня этот красивый мир и тоже обрадовалась. Но она уже старенькая, многое повидала, и ей пришло в голову, что кому-то эта красота не в радость. Потому что холодно и тоскливо.
Подумав, она сделала то, что смогла сделать. А про что не смогла — про это только вздохнула.
11
Невелик-городок наш и в самом деле небольшим был, и многие тут друг друга знали, даже если и не знакомы, так сказать, не представлены официально. А уж соседи-то, живущие за пять домов, по сто раз, поди, пересекались на его нешироких улицах.
Так что и я Николая Евлампиевича с моих малых лет встречал множество раз и поначалу вежливо, в голос, с ним здоровался, но то ли произносил я свое приветствие малой силой, плохо слышимо, то ли — а что, вполне возможно! — сам ухогорлонос был глуховат, а может, и голова его, укрепленная в самом верху большого туловища, была так высоко от моей, что просто не доносилось мое приветствие до его ушей — словом, он не слышал моих приветствий, не отвечал на них и даже, вполне вероятно, не видел меня — малорослого худого малыша, не достававшего ему своей макушкой даже до паха. Этакая козявка
Но со временем, подрастая, я перестал говорить ему «Здравствуйте», а из вежливости просто кивал; позже и кивать перестал, мысленно согласившись, что он меня просто не видит, и только тщательно вглядывался в высоко плывущее лицо, в усы, когда-то пушистые и бодрые, а потом квелые и опущенные, в глаза, застекленные пенсне, и твердо теперь понимал, что странный доктор существует в двух пространствах.
Одном — видимом: вот он тут, шагает, поблескивая калошами по снегу, и никого, по крайней мере, меня, не замечает. И где-то еще, в пространстве незримом, но существующем для него: ведь он потому ничего и не замечает на улице, что одновременно обитает в другом мире, в каком-то отраженном царстве, которое ясно видимо только одному ему.