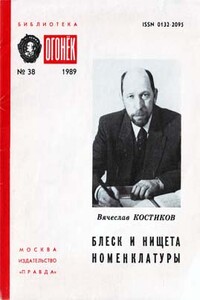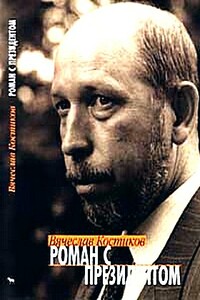Не будем проклинать изгнанье | страница 61
Программа группы "Мир и труд", опубликованная в "Жизни", выдвигала лозунг прекращения гражданской войны и восстановления мира в России. Указывая на отсутствие каких бы то ни было правовых основ советской власти, на ее недемократичность, приверженцы В. Станкевича тем не менее считали, что вопрос будущего российской демократии не может решаться при помощи штыков интервентов. Верил Станкевич и в возможность быстрого подъема России из пепелища гражданской войны. "Период опустошения и разрушения близок к концу, - писал он в первом номере "Жизни". - С каждым днем ярче предчувствуем мы приближение творческого периода русской революции, который несомненно наступит, какой бы вывеской ни прикрывалась власть" 22.
В какой-то мере в воззрениях участников группы "Мир и труд" нашло отражение бердяевское понимание эволютивности политического и нравственного процесса в России, упование на "внутреннее преодоление большевизма". Полагая, что свертывание гражданских прав в России и террор (слухи о масштабах "красного террора" в Крыму уже начали достигать Берлина) дискредитируют великие лозунги революции, В. Станкевич пытался внушить через свой журнал мысль о том, что прекращение террора и обеспечение гражданских свобод только укрепили бы новую власть. "Революция так истосковалась по мирной работе, что примет любой политический строй, который обеспечит возможность производительного труда" 23, - писал В. Станкевич позднее в своих воспоминаниях.
Надо сказать, что в воззрениях группы В. Станкевича было много наивного и иллюзорного. Сама идея примирить Ленина и Врангеля вызывала иронические насмешки в среде берлинской эмиграции.
В 1920 году, когда еще продолжалась гражданская война, В. Станкевич печатал в своем журнале статьи, которые сейчас кажутся "гимназическими" по уровню политического мышления. Тем не менее они отражали часть реальных воззрений тогдашней эмиграции. "Ни к красным, ни к белым! Ни с Лениным, ни с Врангелем! - так звучит ныне лозунг русской левой демократии, - писал Станкевич. - Но если можно отрицать всю Россию, то почему же нельзя ее всю принять и признать? Что если рискнуть и вместо "ни к красным, ни к белым!" поставить смелое, гордое и доверчивое: "и к красным, и к белым!" - и принять сразу и Врангеля, и Брусилова, и Кривошеина, и Ленина" 24.
Уже одно перечисление этих имен говорит о том, сколь наивная сумятица роилась в головах Станкевича и его приверженцев.
Литературные материалы журнала "Жизнь" малоизвестны и русским, и зарубежным исследователям. О них нет упоминания даже в солидной двухтомной "Библиографии русской зарубежной литературы. 1918-1968", вышедшей в Бостоне (США) в 1970 году (составитель Л. А. Фостер). Однако, несмотря на отсутствие крупных авторов, литературные и публицистические страницы журнала интересны тем, что в них можно увидеть в зародыше многие из идей, ставших впоследствии важными этапами в осмыслении эмиграцией своего положения и своих культурных идей. Несмотря на явную смятенность умов и растерянность русской эмиграции, в первые годы изгнания "наивный" журнальчик "Жизнь" интуитивно нащупал главную идею, вокруг которой можно было бы объединить духовно здоровые и политически здравомыслящие силы эмиграции, - собирательство разметанной революционным смерчем великой русской культуры. Журнал взывает прежде всего к оказавшимся за рубежом писателям: "Дореволюционные партии, в большинстве нежизнеспособные, так как дышали затхлым воздухом подполий, зовут по-прежнему к своим дорогам, в большинстве не торным, потому что по ним ни разу еще не гремела государственная телега. Политические группы, либо меняя окраску, либо гримируясь старыми карандашами, будят среди эмигрантов полуразбитые силы и апеллируют к скептическому мнению Европы... Нужно вызвать к жизни литературный комитет в одном из центров Европы, наладить выпуск периодических литературных изданий, открыть кооперативное издательство, кассу взаимопомощи. Нельзя верить, чтобы в годы безустанных национальных испытаний могла молчать русская литература, всегда шедшая впереди нации и неугасимым фонарем освещавшая ей дорогу" 25.