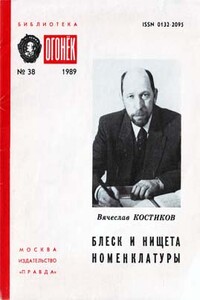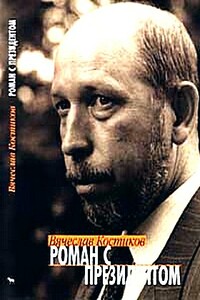Не будем проклинать изгнанье | страница 35
К концу 1921 года бывшая армия Врангеля, ушедшая из Крыма, распалась. Войска переправлялись на Балканы. Кавалерийские части ушли в Югославию, армейский корпус Кутепова перебрался в Болгарию. Дисциплина перестала существовать. Бывшие добровольцы белой армии - одни с радостью от ощущения свободы, другие с тревогой по поводу непредсказуемости "беспогонного" существования - переходили на "гражданское самообеспечение".
Значительная часть офицеров, ушедших из Крыма, в конце концов после скитаний по Болгарии, Югославии, Румынии перебралась в Париж. Там они и закончили свои дни. Скучное захоронение на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа их последнее пристанище. Когда приходилось бывать на этом кладбище - а бывать там приходилось часто, ибо оно вызывает у русских приезжих большой интерес, - я всякий раз удивлялся тому, что на могилах дроздовцев, корниловцев, алексеевцев, в отличие от могил гражданских, почти не бывает цветов. Никто не мог объяснить мне причины этого странного явления. Не могу я его понять и до сих пор. Есть только догадки. Одна из них связана с тем, что судьба офицеров-эмигрантов сложилась более неудачно, чем других беженцев. В отличие от гражданских, они попали за границу без семьи и без специальности. Большинство офицеров умели хорошо воевать, но были плохо приспособлены к гражданской жизни. Многим, вероятно, вредила офицерская амбиция, мешавшая найти пусть скромное, но все же приносящее некоторый доход дело. Сыграла роль, как мне думается, и нервная изношенность. Ведь эти люди прошли весь ужас и жестокость гражданской войны, бегства, безотрадность "Галлиполийского сидения", мыканья по дорогам Европы. Борис Александровский, работавший в Галлиполийском лагере младшим ординатором лазарета, указывает на значительное число самоубийств среди солдат и офицеров, что достаточно свидетельствует о состоянии нервов белой гвардии. Сыграли свою роковую роль и водка, и кокаин, и бытовая неустроенность. Все эти обстоятельства, сложенные вместе, никак не способствовали созданию на чужбине крепких семей. Многие бывшие офицеры так и прожили холостяками и умирали без родных и близких. Вероятно, потому и нет на их могилах ни свежих, ни увядших цветов.
О судьбе эмигрантского офицерства, вовлеченного военной и политической верхушкой эмиграции в активную антисоветскую деятельность, у нас написано немало. Авторы романов, повестей, фильмов, в которых действуют эмигрантские боевики и лазутчики, в большинстве случаев основывались на документальных данных. Действительно, все это было - диверсионные группы, мечты о белом реванше, о возвращении на белом коне в "поруганную Россию", были воинственные призывы и реальные акты терроризма. Но степень вовлеченности русского офицерства, махровость его монархизма, думается, все же преувеличены. Это своего рода дань не только памяти гражданской войны, но и тому времени, когда в каждом эмигранте склонны были видеть врага. Активное участие в антисоветской деятельности за рубежом было свойственно прежде всего верхушке офицерства, близкой к монархическим кругам. Один из таких "непримиримых" офицеров Дроздовской дивизии М. Конради убил в лозаннском отеле "Сессиль" советского дипломата В. Воровского. Монархистски настроенные офицеры Р. Шабельский-Борк и С. Таборицкий пытались убить в Берлине "красного" П. Милюкова. Именно выходец из монархических кругов Борис Каверда убил в 1927 году советского посла в Польше П. Войкова. В мае 1932 года бывший белогвардеец, активист подпольных монархических организаций убил в Париже выстрелом из пистолета французского президента П. Думера. Эти и им подобные акты осуждались эмигрантской общественностью (за исключением, разумеется, крайне правых), ибо ничего, кроме вреда, эмиграции они не приносили и только осложняли и без того непростые отношения русской общины с местными властями.