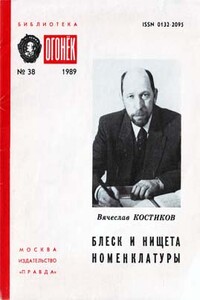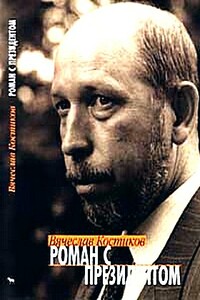Не будем проклинать изгнанье | страница 21
Лишь немногие в этот миг отдавали себе отчет в том, что трагедия гражданской войны еще не окончена, что самая главная, растянувшаяся на несколько десятков лет трагедия русской эмиграции только начинается.
* * *
Много сложнее и трагичнее проходила эвакуация из Крыма гражданских лиц. Если солдаты и офицеры врангелевской армии уходили в приказном порядке и без особых хлопот, то гражданским беженцам приходилось домогаться пропусков и разрешений. Ситуация усугублялась тем, что на большинство беженцев эвакуация свалилась как снег на голову, и будущие эмигранты оказались совершенно не подготовленными к отъезду. Вопрос об эвакуации - а для многих, в сущности, вопрос жизни и смерти - решался в последние дни, иногда в последние часы и минуты.
Многие из гражданских до последнего момента колебались: ехать или не ехать. Да и, в самом деле, легко ли было менять отечество на чужбину, привычный образ жизни на неизвестность. Кроме того, значительная часть гражданских беженцев с севера и из центра России оказалась в Крыму не из политических соображений, а спасаясь от гражданской войны, разрухи, голода. Они рассчитывали, что с окончанием войны худая ли, но установится мирная жизнь и можно будет вернуться к нормальному труду. Мало кто представлял, какими будут этот труд и эта жизнь. Но даже убежденные противники большевиков в этот период считали для себя возможным остаться в России. К тому же для многих русских, воспитанных в высших понятиях чести и достоинства, представлялась унизительной сама идея бегства с собственной родины. Это настроение было настолько распространенным среди дворянской и служилой интеллигенции, что высланный из советской России А. В. Пешехонов в изданной за границей брошюре "Почему я не эмигрировал" ставил эмигрантам в вину то, что многие из них уехали добровольно.
В эмиграции эта брошюра наделала много шума "своей бестактностью". Действительно, для большинства беженцев, военных и гражданских, связавших свою судьбу с белым движением, выбора не было. Или это был выбор между жизнью и смертью. В своих мемуарах князь В. А. Оболенский, бывший с 1918 года в Крыму председателем губернской земской управы, вспоминает о судьбе министра финансов крымского правительства А. П. Барта, который отказался уехать. Аргументация А. П. Барта представляется интересной для понимания многих человеческих трагедий, которые произошли в Крыму с теми, кто, подобно ему, не послушался голоса страха. Голосу страха не вняли многие. По некоторым данным, в Крыму после эвакуации армии Врангеля осталось 60 тыс. безоружных солдат и офицеров 7, сдавшихся "на милость" красным. Среди оставшихся в Крыму был, в частности, сын известного русского писателя Ивана Шмелева Сергей Шмелев. Он был схвачен в госпитале и расстрелян без суда.