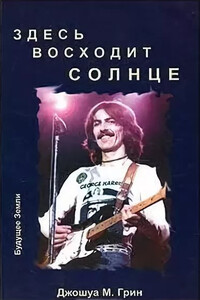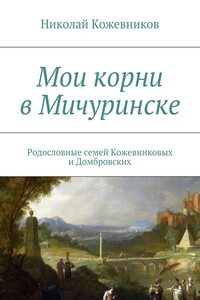Искушения и искусители. Притчи о великих | страница 5
Однажды отправился Дягилев со своим балетом в Испанию. А испанскому королю очень нравился русский балет. Он и пошел за кулисы любоваться на куколок вблизи, а навстречу Дягилев. Король говорит: «А что вы-то делаете в труппе? Вы не дирижируете, не танцуете, не играете на фортепиано — тогда что же?» — «Ваше величество, — отвечал ему Дягилев злобно, — я — как вы. Я ничего не делаю, но я незаменим».
Но это все потом. А в юности все его друзья, а там и Бенуа, и Бакст, большие художники, и Дима Философов, философ, естественно, все знатоки своего дела, однажды смотрят, а этот краснощекий Дягилев, который знал меньше всех, всеми ими командует, и они его слушаются, потому что его почему-то слушается уже вся художественная общественность. Почему? А потому. Тамара Карсавина, она же его лучшая куколка (одно время лучшей была Анна Павлова, но потом зазналась, решила, что может выступать сама, а — и ничего не вышло!), объясняла всем желающим: «Еще молодым человеком он уже обладал тем чувством совершенства, которое является, бесспорно, достоянием гения. Он умел отличить в искусстве истину преходящую от истины вечной. За все время, что я его знала, он никогда не ошибся в своих суждениях, и артисты имели абсолютную веру в его мнение».
А мнение у него было такое: «Все направления имеют одинаковое право на существование, так как ценность произведения искусства вовсе не зависит от того, к какому направлению оно принадлежит. Из-за того что Рембрандт хорош, Фра Беато не стал ни лучше, ни хуже».
А раз он был такой умный, то ни с кем и не церемонился. Вы только представьте себе: приехал в столицу из своей Перми, из какой-то Бикбарды восемнадцатилетний пацан, к тетке Анне Павловне Философовой, первой русской эмансипэ, у которой собирались лучшие умы, живет себе у нее на всем готовом, и вдруг ей, передовой женщине, выросшей на передвижниках и Чернышевском, о кумире и учителе ее вдруг начинает нести крутой бред: «Эта нездоровая фигура (Чернышевский то есть) еще не переварена… наши художественные судьи в глубине своих мыслей еще лелеют этот варварский образ, который с неумытыми руками прикасался к искусству и думал уничтожить его или по крайней мере замарать».
Оказалось, что Дягилев, конечно, все принимает и допускает, но терпеть не может две вещи: передвижников и революционеров. Казалось бы, ну не любишь, ну и помалкивай, особенно когда все вокруг просто трясутся от негодования: сатрапы! тираны! бомбистов сюда, бомбистов, да побольше! До того гнет их самодержавие. Бедная Философова, считавшая себя ответственной за всех живших в ее доме «детей», сразу кинулась писать в своих воспоминаниях: «Дети мои все прекрасны, и я их люблю, но я похожа на курицу, которая высидела утят… Когда вся моя молодежь в сборе, я прислушиваюсь к их спорам и разговорам — и меня мутит. Вспоминаются наши споры в 60-х годах о пользе, которую мы могли бы приносить народу. Где эта польза?»