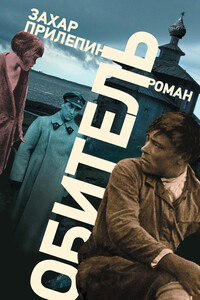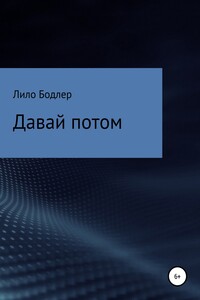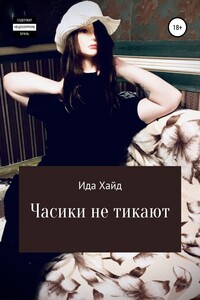К нам едет Пересвет. Отчет за нулевые | страница 20
Это повесть «Мужики».
Упоминает Толстая и о «бесчисленных мемуаристах», которые отмечали в своих трудах сытность российского стола. Приведу цитату лишь из одного мемуариста начала прошлого века. А. Н. Энгельгардт, «Письма из деревни»: «Наш мужик-земледелец ест самый плохой пшеничный хлеб с костерем, хлебает пустые серые щи, считает роскошью гречневую кашу с конопляным маслом, об яблочных пирогах и понятия не имеет…»
И не ведая о вышепроцитированном, в пастельных тонах описывает Толстая российское житие накануне революции: «…и нива колосилась, и трудолюбивый пахарь преумножал добро, и купец торговал мануфактурой и баранками, и Фаберже нес яички не простые, а золотые, и воин воевал, и дворник подметал, и инженер в фуражке со скрещенными молоточками строго и с достоинством всматривался в будущий прогресс… А русский чай был так хорош, что его подделывали завистливые иностранцы. Смотришь старые фотографии: боже! Богатство-то какое!»
Вот видите, к кулинарной книге еще и фотографии прибавились. Полный набор непредвзятого историка.
Пассаж Татьяны Толстой о «Фаберже» и о «пахаре» автор готов продолжить.
Итак, по поводу житья-бытья. Продолжительность жизни русского человека до революции была ни много ни мало 32 года (примерно столько же жили лишь африканцы — у них, видимо, тоже был «золотой век»). Согласно дореволюционной статистике, русские крестьяне потребляли продовольствия на 20,44 рубля в год (для сравнения: английские — на 101,25 рубля). К слову, о «нивах». Все развитые страны, производившие менее 500 кг зерна на душу населения, зерно ввозили. Россия, где урожай был в среднем около 450 кг зерна на душу, — зерно вывозила. Что, собственно, и дало основания нынешним либералам, в том числе и Татьяне Толстой, утверждать, что дореволюционная Россия кормила Европу хлебом. Да, кормила кое-кого. Только после этого большинство населения России кушало, как это у Чехова описано. А остальные — как у Молоховец, не спорим.
Я отдаю себе отчет, что Толстая этого не знает и если узнает — не поверит, потому что ей не хочется в это верить. Ей хочется верить в дореволюционную русскую аристократию, которая якобы «старалась как-то смягчить разрыв между собой и простыми людьми. Мучаясь комплексом вины, заигрывала с народом как могла… старалась идти на сближение, простить пороки (какая прелесть! у аристократии, видимо, не было пороков, только у „мужиков“. — Авт.), закрыть глаза на очевидную неблагодарность (еще лучше! никакой благодарности у этого быдла за самый лучший чай, пропахший рыбой, за лебеду, а также за вывезенный, а после пропитый в парижских кабаках аристократией хлеб. —