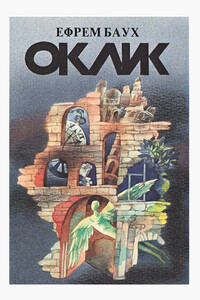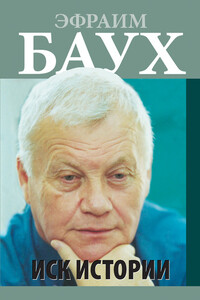Солнце самоубийц | страница 57
Может, потому и ощущаешь родство, ибо равно принадлежишь руинам?
И что там швейцары, похожие на адмиралов, сверкающие шевронами, галунами, эполетами и пуговицами? Майзель красочно описывает лицо, словно сошедшее с портретов Тициана, в наряде английского короля Генриха Восьмого, — хранителя музея, который в опереточном лондонском Тауэре стоит с алебардой в руке, но Майзель видел его усталым, после долгих часов стояния, за стойкой в забегаловке, тут же, рядом с Тауэрюм, все в том же аляповатом наряде по-стариковски жующим бутерброд; странная это порода людей — хранители музеев, вот еще вспоминается Майзелю молодой спортивного типа парень, явно не к месту, хранитель музея Густава Моро на улице Ларошфуко в Париже, а рядом с ним — хранительницы — бледные анемичные девицы, подстать девам с полотен Морю. Вот буду швейцаром, думает весело Кон, или лучше — хранителем музея: все же при искусстве; а что, разве все бездари, наделенные званиями заслуженных деятелей искусств за беспрерывное изображение вождей на фоне дежурных событий поистине краткого курса истории, беспрерывно преющие в президиумах, не были истинными швейцарами и сторожами собственной карьеры, а художники, пошедшие в сторожа и истопники, сохранили истинный огонь искусства?
А в Лувре, смеется Майзель, стоит седой негр-хранитель зала, в галунах, шевронах, фуражке с золотым околышем, рта не раскрывает; туристы из Германии целыми семьями, с квадратными лицами, багровые, минуту назад объевшиеся сосисками и опившиеся пивом в буфете Лувра, валят скопом, и все к чернокожему с одним словом: «Мона Лиза», а он важно, рта не раскрывая, указывает пальцем направление; Майзель говорит о Париже, захлебываясь его видениями, ведь он сейчас по дороге в Париж; всегда едет через Рим, а в Париже на этот раз выставка израильских художников: о, Париж, помнишь Монтана; идешь через Новый мост, Пон Нёф, вот здесь строили баррикады, печальный голос политехника пел «Марсельезу», хор из-за груды булыжников, выдранных из мостовой, уныло подпевал: будничная скука свободы и смерти; Париж, Парис, как нарцисс, легкий и быстрый в противоположность тяжелому красно-бурому Риму, Парис, летящий, как парочки на мотоциклах по Елисейским Полям, да так, что из-под платья обнажается девичья ножка, и все летят за ней напропалую, но увязают в потоке вещей, в руслах магазинов, пассажей, и вот уже человек теряет свою устойчивость, погружается в груды изделий, зарывается в ткани, тонет в запахах духов, уже не различает течения времени в искусстве, археологии, архитектуре: все сплывается вместе — египетские мумии Лувра плывут трупами Варфоломеевской ночи, сталкиваясь с жертвами Коммуны в грязной полноводной Сене. Как остановиться? За что зацепиться? Вал туристов забивает улицы Латинского квартала, с детской радостью и аплодисментами встречая самые примитивные номера фокусников-любителей, не отрывая глаз от глотателей шпаг и огня, ибо на всех фокусах и кривляниях отблеск этого легендарного города.