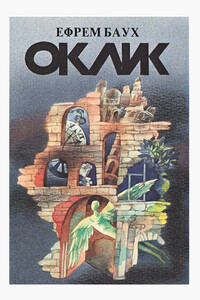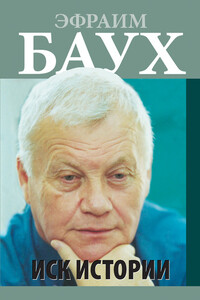Солнце самоубийц | страница 53
Единственной чудно-забвенной, такой лечащей тишиной встречает Сартай, бесконечно длящиеся зарасайские озера. Слушать эту тишину не мешает оглушительно встречающий нас оркестр пожарников города Дусятос, где рядом с худым, как жердь, человеком, отчаянно колотящим в огромный барабан, стоит председатель горсовета, соревнуясь пузом с барабаном, а рядом с ним неожиданно стройная, молодая с испуганным лицом, его жена. Не мешает бесконечный пир на дармовщинку, который они якобы закатывают для нас, но мы-то уже давно спим, а они напропалую гуляют до утра, носятся на моторках по озеру, ловят рыбу, жарят, выволакивают нас на рассвете, осоловелых, из постелей, опять сажают за столы, на которых ранний праздничный ужин, не прерываясь, перешел в завтрак. Начинаешь понимать, как пьянка может стать формой жизни, если только пробудившись, видишь бутылку и стакан, вкрадчиво напористый взгляд уже клюнувшего соседа: будешь сопротивляться, он, как детский врач, вливающий в ребенка лекарство, чтоб спасти ему жизнь, просто силой вольет в тебя это зелье. Дважды в течение десяти дней абсолютно трезвею: первый перед огромной эстрадой, где необозримый хор с литовским упорством поет нескончаемую песню, а из транзистора, прижатого к уху соседа, слышу: совершено покушение на Роберта Кеннеди; второй раз — на еврейском кладбище с его лютеранской чистотой, молчанием у склепа Вильненского гаона, рассказами этого, идущего сейчас к «Станцам» Рафаэля, о литовском Иерусалиме — городе этом Вильно. Потом еще Понары, опадающая листьями лесная тишина, ополоумевшая над оврагами и бетоном обелисков в память тысяч расстрелянных только потому, что они были евреями, и этот, в сию минуту уже приближающийся к Сикстинской капелле, стоит у обелиска и почти про себя бормочет слова «Кадпша», которым его учил в детстве дядя его, ребе, — ну разве не судьба, не мистика, не наваждение, что именно этот, напрочь исчезнувший после той декады в бездне мира, именно он, лишь однажды ставший в его жизни вожатым во всем, что касалось их еврейских корней, именно он (а он ли?!) должен оказаться здесь в эти минуты, неотвратимо вести его, Кона, в капеллу, как в Дантов Ад, где — в высотах — движение Божественного пальца рождает Адама.
Вот уже тот, преследуемый Коном, исчезает в толпе, втянут в каменную глотку прохода, и Кон — за ним, теснимый земными телами, вертящийся щепкой, легкой и забвенной, лишенной возможности пойти на дно: быть может, эта невесомость и духовная твердость