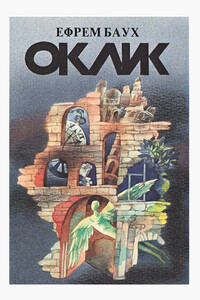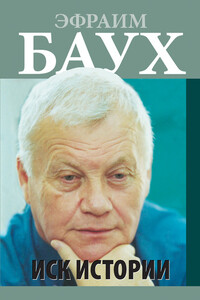Солнце самоубийц | страница 39
Синдром Гоголя.
Где-то скреблись мыши под полом, древоточцы — в мебели; незнакомый, неожиданно жаркий в это промозглое декабрьское время ветер, прогнавший Неббия, более нагло и деловито пробовал расшатать фрамуги окон.
Кон осторожно, с каким-то бессильно сдерживаемым отчаянием приложил ладонь к заголившемуся, обжигающему жаром, нежностью, спасением бедру спящей рядом Лили, чувствуя отчетливо, холодно, как приближается нечто ночное, кошмарное: еще миг — и из-под стольких закрытых на ключ, а то и законопаченных дверей в другие помещения, не сдаваемые хозяевами Хиасу, из каких-то паутинных закоулков этой затхлой чужой римской квартиры вынырнет вся нечистая сила, для которой не существует границ, вот она уже наваливается на грудь тяжестью, слабостью, потом, сердцебиением; только не открывать глаз, не поднимать век, ибо вот он — явился — Гоголь — востроносый и мертвый, тихий, похожий на какое-то корневище, только нос Буратино чрезвычайно его омолаживает. Гоголь молчит, но у него нутряной голос. Приходящий эхом ли, ознобом? — «Поднимите мне веки! Не вижу!»
Не открывать глаз: не быть обнаруженным. В чужой квартире или вообще неизвестно где, растекаясь амебой, Кон умоляет востроносого мертвеца, вышедшего вместо панночки из гроба, оставить его в покое, ведь он не Хома Брут, он — потомок жидконогого жида Янкеля, такой же смешной и беспомощный.
Кон бормочет про себя некое подобие молитвы, то, что может быть спасением, но ему неведомо: те, кто знал молитву и мог спасти его, — дед его и бабка — ушли под землю, им же осмеянные, и в этот миг противостояния лицом к лицу с другим таким же весельчаком и насмешником, пытающимся у него, потомка Янкеля, вымолить прощение, сухая душа Кона оказывается банкротом.
О, этот весельчак Гоголь, вбивающий кол в собственную могилу, читающий сам себе заупокойную молитву хохотом и весельем казаков, швыряющих жидов в Днепр.
Но почему у весельчаков глаза стекленеют, тело, Вием овеваемое, мертвеет? Ощущает он глубиной своей души, что дешевая это оговорка, что чем она больше втягивает его, тем страшнее будет расплата.
А разве он, художник, жид, потомок Янкеля, достоин лучшего? С язычески-католическим Римом изменяет собственной душе, как Гоголь с казаками, и тоже с оговоркой, мол, чересчур повязан с этой цивилизацией, хотя это — быть может, более интеллектуально — то же самое, что говорят окружающие его, такие же, как он, эмигранты-потомки-Янкеля: нельзя жить там, где все вокруг — евреи: подальше от них, подальше.