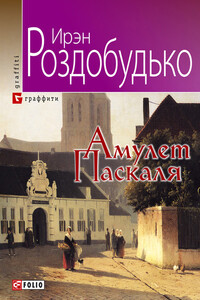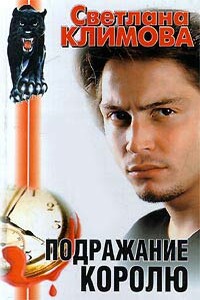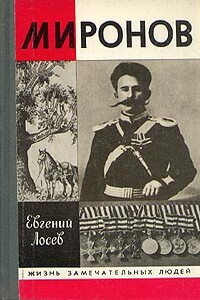Моя сумасшедшая | страница 28
Перебрав все, что попалось под руку, Вероника Станиславовна отложила платье в сторону. Пожалуй, придется остановиться на темной кружевной шали и черных перчатках к серому костюму из тонкой шерсти. Букет бледных тепличных лилий, ненакрашенный рот — достаточно. До отъезда на кладбище нужно еще успеть выпить кофе и позвонить на дачу — как там дети.
Соседа Бушмака похоронили вчера в полдень. Прибывшая поздно вечером группа оперативников — ведь случилось не где-нибудь, а в соседстве с дачами двух наркомов и секретаря ЦК — установила, что смерть была естественной и мгновенной: остановка сердца. Этим и объяснялись ушибы и ссадины на лице покойного. «Зарыли Зюка, — шмыгая, сообщила Настена, — как шелудивого пса. И отпеть некому, попа днем с огнем не достать». Вероника Станиславовна выдала три поллитры казенной, сдобных сухарей и леденцов — пусть поселковые помянут.
Тем временем Андрей Любомирович стоял в почетном карауле у гроба.
В актовом зале писательского клуба были распахнуты все двери, ряды плюшевых кресел и ковровые дорожки убраны. А на подиуме, среди бутафорских венков, вянущей на глазах сирени и нарциссов, смирно лежал тот, кто напоследок сумел-таки взорвать оцепенение столицы.
Впервые лицо покойного Филиппенко увидел сверху и слева, и в этом необычном ракурсе оно показалось ему помолодевшим, замкнутым и скульптурно завершенным, будто последнее принятое решение раз и навсегда стерло все лишнее. Эту мучительную выразительность, избыточную подвижность черт отмечали многие, относя ее на счет постоянно взвинченных нервов, а в последнее время и алкоголя. Теперь Петр казался спокойным — вот чего ему никогда не хватало при жизни.
Одного взгляда оказалось достаточно. Андрей Любомирович отвернулся и больше не смотрел: как раз отсюда, слева, был хорошо заметен кровоподтек, бурое пятнышко на белке глаза самоубийцы, наполовину прикрытого вспухшим желтым веком. Эта крохотная деталь, не имеющая уже никакого значения, пугала и отталкивала.
В остальном все шло, как полагается.
За время, отведенное для прощания, у гроба побывало партийное и советское начальство — не из высших сфер. Далее — те, кто считал себя единомышленниками покойного, потом гурьбой пошла разношерстная литературная и журналистская братия, актеры, художники — кто знал, любил и ценил. Простая публика в ожидании топталась перед входом — неожиданно огромная, растекшаяся до угла Пушкинской толпа. Однако последовала команда с самого верху — с прощанием уложиться в сорок минут, и без десяти десять тяжелые двустворчатые дубовые двери писательского клуба, знаменитые своей затейливой резьбой, были закрыты для посторонних.