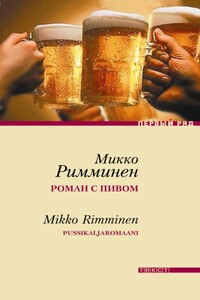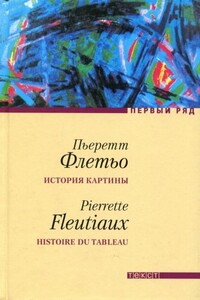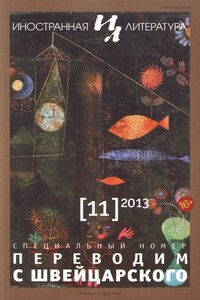Черная земляника | страница 33
Я насчитала четырех, очень крупных. Дальние пруды уже накрыла тень, вода была ледяная. Я заметила это, когда плавала. Надо мной парили стрекозы, они взмывали высоко, до самых верхушек сосен.
Когда в шесть вечера я возвращалась домой, меня поразил запах Роттензанда. Это был какой-то особый, утонченный, не такой смолистый, как в лесу, аромат нагретых камней, тростников и трав, напоминавший цветочный.
26 августа
Я живу с матерью в северо-восточном крыле маленького французского замка XVIII века, в краю, где говорят на старинном немецком гортанном языке нибелунгов. Мой отец, адвокат по каким-то темным делам, человек с дрожащими руками, отличался смирной, приниженной манерой поведения на мессах и независимо-гордой осанкой на охоте (вот уж где он не дрожал!). Когда я попросила у него лошадь в подарок к пятнадцатилетию, он, который не мог оплатить нам ни служанку, ни «мерседес» и давно уж схоронивший своих собственных лошадей, ответил мне согласием.
— Но ты будешь ухаживать за ней сама!
С тех пор прошло два года. Мой отец умер. Я вытащила из заброшенной конюшни гнилое сено и кучу тряпья и поселила там своего рыжего красавца полуараба, которого ежедневно мою, обихаживаю и вывожу на прогулку. Шерсть у него блестит так ярко, что я назвала его Брильянт.
Трудно быть единственной дочерью, говорить на двух языках (по-французски за столом, по-немецки в конюшне), страдать от пробелов в образовании, жить без друзей, потому что местные — ох уж эти местные! — не любят того, что люблю я, и любят то, чего я не терплю (если не считать Лена — это мой кузен из главного, юго-западного крыла замка).
Да, трудно быть девушкой, быть бедной, быть одинокой.
Мне не очень-то удается ладить с матерью — все кажется, что она никогда меня не любила, а может, я ошибаюсь, я хотела бы ошибиться. Но по-моему, она желала не дочь, а сына. Мое самое первое детское воспоминание связано с глухим шумом, поднимавшимся с пола парадной залы; он то затихал, то слышался вновь. И еще я помню тяжелый запах постного масла, смешанный с запахом шерсти. Моя мать была мужской портнихой. Она прекрасно владела своим ремеслом и держала у себя под началом четырех швеек. В первые годы замужества она не смогла отказаться от работы и большую часть дня проводила в этой просторной низкой зале, где непрерывно стрекотали швейные машинки. Мне был тогда год или два — обычно от этого возраста в памяти ничего не остается. Чтобы со мной не случилось никакой беды, меня подвешивали на большой гвоздь, вбитый в стену, точно узел с бельем или полишинеля. Я представляла собой и то и другое. Я махала ручонками, смеялась, плакала. Иногда меня снимали оттуда.