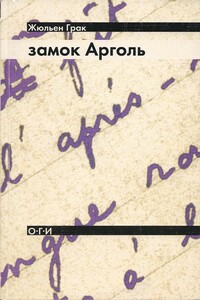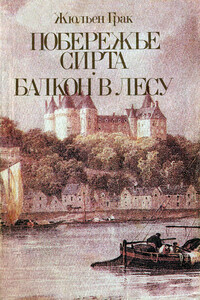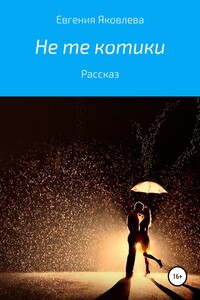Минуту-другую он стоял неподвижно, будто окаменев от ужаса, бессильно уронив руки, прислушиваясь к судорожному биению испуганного сердца. Мы чувствовали, как леденеет дыхание у нас на губах. Даже охота на тигра не могла бы вызвать такое чудовищное напряжение, обострить зрение до предела, превратив наши глаза в обнаженные клинки. Прошло еще мгновение, словно перед концом света, — и мы увидели, как по его щекам текут слезы, беззвучно и быстро, словно вода источника. Потом — снова тишина и полная неподвижность. И вот наконец он сделал шаг вперед — так ходят призраки, — и, зажмурясь, как тот, кто готовится прыгнуть в бездну, протянул руку и
дотронулся. Его ногти застучали о стекло, как стучат о стакан зубы горячечного больного, а затем он отдернул руку, и мы поняли, что ужас его достиг предела. Еще одна, долгая минута, когда, должно быть, ему казалось, что все его тело размякает и распадается: и вот, как в древних сказаниях, воззвав, подобно Улиссу, подобно Ипполиту, к своему сердцу, он
пошел на чудовище, и, отважный змееборец, своими до смешного тоненькими и слабосильными ручками попытался сдвинуть бутыль с места. Бутыль лениво покачнулась на круглом днище и понемногу, не торопясь, стала выплескивать на постель ледяную воду. О том, чтобы разбудить дикую орду, храпевшую вокруг, не могло быть и речи. Тогда, обезоруженный, потрясенный, уязвленный в самое сердце впервые открывшимся ему человеческим коварством куда сильнее, чем могли бы его поразить жуткие видения ночи, — жалким, полным беспросветного отчаяния жестом он скрестил на груди руки. И в эту секунду над ним, словно крик петуха на крыше, раскатился торжествующий смех Аллана.
По-видимому, Аллан с очень ранних лет понял, что обладает редкой способностью — без всяких усилий доводить мысли и дела до опасной крайности, обращать их во зло, способностью разлаживать жизнь, — думаю, из желания побороть эту опасную наклонность, перед коей он иногда оказывался бессилен, он привил у нас своеобразную англоманию, которую можно было оправдать его британским происхождением (он очень им гордился) и которая окончательно закрепила его положение законодателя мод. Он стал напускать на себя бесстрастный вид, внедрил причудливый школьный жаргон собственного изобретения, носил монокль, итонский галстук и костюм английского покроя — очевидно, он инстинктивно понимал, что такая холодная, чопорная элегантность сделает его еще изысканнее. В нашем классе установился своего рода террор, когда он, с кучкой высокомерных приближенных, вздумал превратить свой