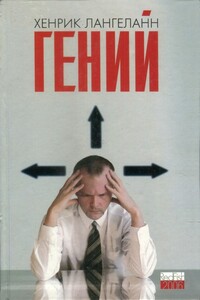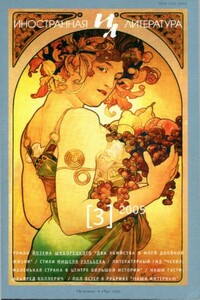Апостат | страница 162
Волна схлынула. Алексей Петрович попрал кисельную пену пляжа, и Афродита Небесная, та, что красуется на критских паспортах, заголубела вдруг вкруг светила, обволакивая его неженской нежностью нежити, презирая, однако, свою безземельную, тьеполову теплоту, как веницейский князь Иванушка, предтеча Кадышева, — высоту.
За заставой, на французской территории, предводительствуемые «Бабой» Сегантини, приветствовали фламандцев их фламандские же родичи, ещё не залучившие части нажитого заокеанского скарба, но, предвкушая её, уже всплёскивали руками — нечестивое выражение человеческих чувств! — да, чаплиновским жестом обращая в прах окурки, заряжали фотоаппараты с людоедскими ухмылками познавших добро и зло. А над ними, на колоссальном экране, рекламный базельский буржуа, святотатствуя под Рождество добротным коньковым стилем, похабно расчленял халкионические ножны лыжни, славно выкованные ночным монстром, — и тут же, где-то (судя по рыжему снегу) у антиподов, один за другим выстреливались с трамплина (над бегущей справа налево неисчерпаемой строкой …mon-Salomon-Salomon-Salomon-Salo… Алексей Петрович не досмотрел, за что тут же и принялся себя казнить) семеро молниеносно распластывавшихся в воздухе летунов, головастые, будто гринды — лоцманы порта моей Галлии, когда страннейший странник Рима, этот лангобардовый и вихрастый хорейный Зверохор, на своей тирсовой триере, струится в его воды, молниеносно консервируясь ими на века: «А-а-а-а! Мне-то и предстоит вознести эти амфоры к свету! — глоток воздуха и, амфибиево вильнувши торсом, — за следующим сосудом!».
Солнце хлестнуло его в фас. Нельзя было уклониться, нырнув, как учил гуттаперчивый кельт в дожо окнами на позеленевшую от выхлопных газов и коломбовых экскрементов фригийскую бабушку, прущую с берёзовой лозой из дубравы в хаммам. Алексей Петрович выставил длань исподом к светилу, отчего дельтовидная мышца вздёрнула правое плечо, а из зазиявшего пазуха сумки грохнулась оземь давеча сворованная бутылка. Ничего не было видно, но Алексей Петрович, то ли оберегая брюки, то ли подчиняясь издревле впаянному в него инстинкту, подскочил по-козлиному, и тотчас сгорбившись, повернулся, изобразивши из ладоней теремок, оглядел место взрыва: пятно, изошедшее пузырями, как самородками, — точно пластины храмовых кровель, уже содранные восточными супостатами, уже брошенные в горнило, уже переплавляемые в исконные ископаемые формы, и пучившиеся от рудной радости, — расплывалось, пропитывало асфальтовые трещины, и, наконец добравшись до решётки, обрушило внутрь винные остатки при совершенно осатаневшем лазурном благовесте.