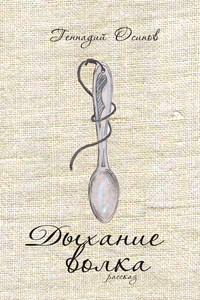Апостат | страница 145
Седовласый Пётр Алексеевич и впрямь напоминал яйцо, разукрашенное на будущий футуристический манер (тут критик вздымает васильковый ворох, служащий ему бровями, да вытянувши жирные губы архангельским горном, сдувает с библиотечного стола пыль), но так и не сбытое кротким христианам, — повертел его, хрустя валиком ваты, заезжий кукольник, шатающийся от последствий щедрой гиньолевой выручки, да и положил назад на прилавок с осторожностью, коя иной раз спозаранку пронизывает молнией нежности к заблудшему забулдыге.
Пётр Алексеевич отхлебнул ещё, опершись на стол пуще прежнего, — из-под кармана свесился внушительных размеров сосец, — трижды, по-картезиански, пожевал губами. Проглотил. Лучше, видимо, не стало. Отцова шуйца поползла, поползла, поползла, затаилась, показывая оловянную поросль, как зачатки коронок зубов Аресова ящера, переселившегося к Гамлетам — эдакое Немезидово возмездие (вот тавтология! вроде «неизданных анекдотов» да «римской мощи»!) за стародавние драконо-драккаровые виктории нехристей. Алексей Петрович и желал бы обнять отца, прижаться к нему, обнажить сызнова набухшую слезу, но, словно зачарованный, не смел пошевелиться.
«А потом, кто из нас действительно тень? Вот ведь, стоим мы по обе стороны моей выбритой щеки, чей глянец — рубеж меж свидетелем и слепцом, Лимб поодаль моего Рая. Залог этой границы — троицу лезвий, в каждом по три ножа с кисельной, витаминовой, для одобрения эпидермы косой, — сжимаю я в кулаке: кусочек, обол, обелиск, на который мои — Люциферовы! — отпрыски силой выменяют Божьи, мидийские, золотые доспехи славно успевшей Родительницы Богов».
Нежно ёкнул холодильник и засеменил по линолиуму на своих четырёх лапах, точно ступая резиновыми наконечниками отроческих стрел, — мои никогда не присасывались, но как они впивались, стоило лишь заощрить их ножом, предназначенным чинке чинного дедовского пера! Дом, отходя ко сну, позёвывал, — пьяненько скрежеща гаражными воротами, — урчал миролюбивее, сообразуя свой кишечный вальс с вибрацией чёрночревой, с малиновыми прогалинами фонарей, американской ночи, поглотившей его до поры до времени, как самосатским лжецом у Ионы позаимствованный кашалот — бригантину.
«Значит, завтра из О’Хары (Алексея Петровича всегда так и подмывало усугубить это финикийское ругательство, прокравшееся в воздушную гавань Иллинойса), в пятнадцать». — Отец оставил стакан в покое. Вино, как и следовало ожидать, сей же час застилось пеленой — вестницей бури, которая не разразится никогда. Поднялся. Судорожно. Косноязычие и безъязычие. Ступор властвовал отцом, шуровал им, как гефестовыми девами, механизируя жесты, прижимая его к Земле, делая бесполезным сопротивление пузырям воздуха, пучащимся в желудке с нарочитой менандровой настойчивостью. Молчание без еженедельного распятия и крестных мук — вот дьяволова ниша на телах рас-асгматиков!