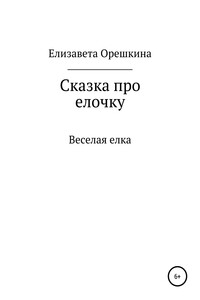Апостат | страница 126
Наконец, василисковому глазу Алексея Петровича покорясь, обрушился мотоцикл, и, поджав ноги, — замер, с наслаждением прикурнувши к свастикой треснувшему окну. Заоколичное торжество. Вой. Голый торс бора, негритянский, точно к раунду плебейского мордобития изготовившийся. А сзади, сбирая весь калым бородулевого бородоненавистничества, сперва предназначавшегося Алексею Петровичу, плёлся Пётр Алексеевич, сутулясь под тяжестью чилийской лозы и от давней почечной болезни, которую подхватил, как Никий — однажды выбравшись на природу. «И всё-таки покинуть его! Завтра же!» — и шнурки шёлкали далее; уходя из ресторана, Алексей Петрович, всей поверхностью кожи отдаваясь азиатской угодливости, мог вообразить себя достославным идиотом-меченосцем Куросавы, — не наполняй залу трезвон советского Нового года, переслащённый до приторности Чайковским, презанятно усовершенствовавшим Халявину синекуру.
А снаружи бушевал ветер. Алексей Петрович подставил ему шершавую кожу ланит, гримасничая, отворотил рот в сторону львиц, — свирепых сейчас, словно разродившихся от бремени, и заглотивших по многоваттовой плошке, озарявшей, вкупе с разорванным теперь термометром, их чёрные затупленные резцы, — вдохнул лонешний запах соломы. Грохнула дверь; пробежал, раскрывши объятия и с початой бутылкой рома, азиатец, вырывая Алексея Петровича из ступора, увлекая вслед за собой его, неспособного унять взор, всё примечающий в этой, уже уверившейся в своём нимфовом спасении, лучащейся Америки: как, например, севши за руль, Лидочка сложила ворсистую свою ляжку, хлопнула дверцей, защемив бахрому шали, приоткрыла и, втянувши материю словно хвост, чавкнула замком; и каждое движение мачехи находило ритмичный отзыв сначала в ледяном ситцевом прикосновении, затем в пожатии мускулистой шины, а после — в наложении мужских рук на ещё тёплый мотоциклов зад:
— Точно туша пожертвованного Митре быка, упрямясь тьме, сберегла жар волоокого, как розовощёкий тицианов Дук, Божества… что это я?!..
— Хай! — воздевши бутыль к небесам, поприветствовал Алексея Петровича, уже взнуздавший мотоцикл, азиат, — и опять присосался к струе рома.
— Хай?.. Ах, снова! Нехай! Губитель Губерт! Ловец, прочь синагоги! Ннна-и-и-и-нна-а-а-а! Изыдь из фавнов, нимф да Терпсихор! Весёлый Велес, славься! И ты, и ты, четвероногий Хорс! Хор! Эй! Терпандра семиструнья вор, взяв гуслей Полигимнии уроки, в меня процокай на своих копытах — расширь ушко иглы! Квадратной парадейзы, с хоругвью Ватикана — или моей Гельвеции надутой — ты округли закуты! Цик-цик, цик-цик, цик-цик. И вот — я на сносях! Спеси ж меня до Низы, Муза, Скамандра воскресив дитём, исполненным клычков молочных! Испьём до дна там кубок-Тартар, Геба, росою слёзной полный, громковзвлажнённее щеки небритой! Кровавей спарагмёнка с губкой! Дай и ему хмельной настой! Ему! Еммммм! У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у! Амброзию! Варравке-Барба-а-а… росу! Он избежал лихого милосердья! Он сверстник мне единолихолетний! Он будет нынче же со мной в раю!