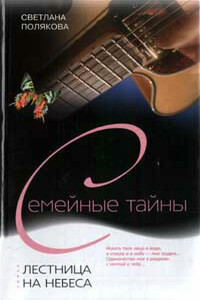Агни Парфене | страница 59
Сон ему приснился странный, смутно-тревожный. Будто он продолжал пить виски и смотреть на икону в своей комнате, только — кто-то еще вошел и остановился за его спиной. Нико хотел повернуться, посмотреть, кто это такой — только почему-то не мог пошевелиться, точно скованный, и от этого ему было немного жутко и неприятно.
Говорить он не мог — язык словно распух, отказывался слушаться, и Нико почувствовал себя беззащитным, как зародыш в материнской утробе — и гость этот невидимый молчал, но Нико знал — сейчас этот странный гость наслаждается его состоянием, питается им и — смеется над ним, Нико, просто смех у него неслышный, растворенный в воздухе и в его голове, и поэтому голова так кружится, и еще ему кажется, что кто-то приготовился что-то сделать с его лицом — какие-то инструменты готовит, чуть ли не острый скальпель, и операция будет без наркоза…
Он проснулся с дикой головной болью, каким-то жутким привкусом металла во рту, бросился к зеркалу — боясь увидеть не свое лицо, а лицо какой-нибудь Марии Шараповой, и вздохнул с облегчением, увидев собственный нос с папиной горбинкой, мамины пухлые щеки и голубые, круглые глаза. Он.
Обернулся — увидел, что бутылка практически пуста и почему-то стоит рядом с «образиной» — он даже усмехнулся, обрадовавшись тому, что нормальная способность воспринимать мир иронически к нему возвращается, и подумал — экий славный получиться может натюрморт, еще газету, огурец соленый и краюху хлеба…
Но вот мысль, что пить ему надо меньше или перестать совсем, преследовала его почти весь день, и следующий тоже, а в тот самый день, когда был намечен его перформанс, он понял — придется прекратить пить совсем.
Потому что то, что случилось там, он объяснить никак не мог. И если Андрей Ильич думает, что Нико из-за милиции, появившейся в выставочном зале, внезапно занервничал, он не прав.
А плохо-то ему, Нико, стало совсем по другому поводу. В конце концов, милиция — это неприятно. Но для его продвижения к вожделенным лучам славы — вовсе не бесполезно, и теперь он может позиционировать себя как жертву произвола и борца за свободу творчества.
Нет. В другом дело… Совсем в другом. Он иногда сам не мог понять, почему в нем поднимается глухое раздражение, когда он видит эти изображения с «истонченной телесностью», по словам Трубецкого — прообразы будущего, храмового человечества? И — может быть, оттого, что ему там места не было, он ненавидел их сильнее, и чем сильнее ненавидел, тем сильнее боялся чего-то, им не понятого и не принятого.