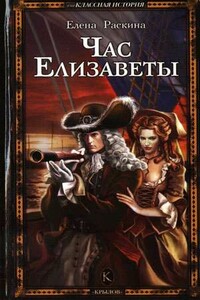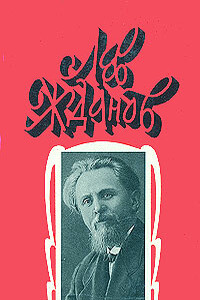Жена Петра Великого. Наша первая Императрица | страница 122
В ту ночь лагеря не разбивали — спали прямо на телегах, а кто и на голой земле, вокруг костров. Катарина, убедившись, что все ее многочисленное семейство уснуло крепким и глубоким сном смертельно уставших людей, проскользнула к своему сержанту Иванникову, которого уже научилась называть по-русски, тепло и легко — Феденькой, а про себя звала по-немецки Теодором. Тот укрыл «любушку» плащом и увлек куда-то прочь от дороги, в сладкую и вязкую темноту, укрывшую их словно покровом. И тут из темноты появился пастор Глюк со славянским Евангелием в руках.
Пастор давно уже догадывался о неподобающем легкомыслии Катарины, но не мог уличить ее без доказательств. В ту осеннюю походную ночь пастору не спалось: он закрыл было глаза, но горькое чувство вины, терзавшее его в последнее время, не давало заснуть — перед глазами вставали страшные картины осады и штурма города, потом — пленения, жуткого избиения безоружных пленных, ужаса и позора жителей… «Mea culpa, Domini! Mea maxima culpa! Моя вина, Господи, моя великая вина!» — шептал преподобный Глюк, с раскаянием ударяя себя в грудь кулаком, хотя и сам понимал: его собственная вина состоит лишь в том, что он так страшно заблуждался в отношении московитов… Тут пастор услышал совсем рядом чьи-то легкие шаги и открыл глаза. Катарина, его непослушная девочка, спешила куда-то прочь от дороги, а ей навстречу — тот самый русский, что повадился приходить к ней! Он поспешил следом за влюбленными и, едва они слились в объятиях, вынырнул из темноты, словно кара Господня, и обрушил на их головы свой праведный родительский гнев. Нервы пастора были расшатаны настолько, что он не смог сдержаться и прежде всего влепил несчастной Катарине пощечину, чего раньше никогда себе не позволял. Бедная девушка истерически зарыдала и, совсем не стесняясь, бросилась на грудь к своему московиту, ища защиты у него. Тот протянул у нее над плечом руку и со скрытой, но внятной угрозой выставил вперед ладонь, преграждая путь разъяренному отцу.
— Не извольте подходить, сударь! — предупредил он. — И обидеть ее не могите!
— Вы обесчестили мою дочь, и нынче же утром я доложу об этом фельдмаршалу Шереметеву! — воскликнул пастор Глюк, едва сдерживаясь, чтобы не наброситься на наглеца с кулаками. — Вы будете повешены за это гнусное насилие еще до полудня, вот увидите!
— Докладывайте, сделайте милость, — усмехнулся сержант, совершенно не смутившись. — Борис Петрович справедливый, он разберется! Батюшка наш только насильников вешает, а ежели это любовь по сердечному согласию — благословит! Да и меня он ведает: при мызе Гумоловой, как мы с плутонгом моим свейскую гаубицу с полным огневым припасом одержали, жаловал нас десятью рублями на круг…