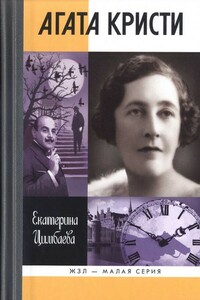Грибоедов | страница 57
Саша был слишком мал, чтобы играть в спектаклях, но он неизменно присутствовал на всех репетициях, постигая закулисную жизнь, и на всех представлениях, знакомясь с русскими пьесами и операми и с превосходным цыганским пением. Отечественный репертуар к тому времени несколько обогатился по сравнению с серединой восемнадцатого века, но не все было по силам крепостной труппе или по вкусу благородным зрителям. Уже были написаны знаменитые сатирические комедии Фонвизина и менее известные Крылова и Клушина, начал писать насмешливый князь Шаховской, появлялись бесчисленные переделки иностранных пьес, опер и чувствительных повестей Карамзина. В каждое представление, по обычаю, давали одну большую и более серьезную вещь — трагедию, или оперу, или бытовую комедию, вроде «Недоросля», в сопровождении более легкого и короткого фарса, или дивертисмента, или хорового пения. В перерывах зрителей развлекали балетом. Все было просто: исторических костюмов никогда не надевали, декорации делали самые незначительные, при нехватке актеров пьесы сокращали, при недостатке ролей — увеличивали вставными танцами и пением. Кроме Фонвизина, никого из тех авторов и переводчиков теперь не увидишь на сцене: язык их стихов и прозы был не особенно хорош, а подчас и вовсе странен. Но театр есть театр. В самом простом и даже смешном виде он таит волшебное очарование, сцена влечет и кружит самые серьезные головы, и снисходительные зрители, пропуская невольные заминки и огрехи, получают истинное наслаждение, которого не понять тем, кто сам никогда не стоял на подмостках и не присутствовал при сотворении спектакля.
Лето, проведенное в веселом дружеском кругу, мелькало быстро. В сентябре приходилось собираться в Москву.
Дольше задерживаться было нельзя — начнется осеннее ненастье, придется сидеть в деревне до санного пути. Сестры Грибоедовы зиму в провинции не жаловали — довольно ее натерпелись. Но Алексей Федорович оставался: по осени только начиналась настоящая охота, и к тому же хозяйский пригляд был небесполезен во время работ и сбора урожая. Хмелитское имение было наполовину оброчным, как повсюду в Смоленщине, земля была в основном роздана крестьянам, платившим оброк не столько с собранного урожая, сколько с доходов от различных ремесел, издавна здесь развитых. Оттого оброчные деньги были очень разными: архитекторы, каретники и портные, отпущенные на зиму в Петербург или Москву, платили по двадцать пять рублей, поселяне, работавшие только на земле, — рубля по два-три. Это было очень умеренно, к тому же Алексей Федорович не тратил все деньги на собственные удовольствия — будучи человеком Просвещения, он и для окрестных крестьянских детей завел школу и содержал ее всю жизнь в порядке, невзирая ни на какие долги. Барин был любим крестьянами, несмотря на жесткий порядок, установленный им в деревне. На приказчиков он не полагался: от тех больше вреда и хозяину, и крепостным. Когда же помещик проводит лето и осень в имении, приказчику негде развернуться: ни утаить доходы, ни помучить крестьян — барину пожалуются, себе хуже будет.