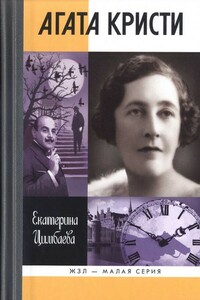Грибоедов | страница 53
Воспитание заканчивалось к пятнадцати годам, но умственное развитие продолжалось. Важнейшее требование к образованному человеку было обладать «развитым обширным чтением умом». Учителя прививали навыки чтения — неторопливого, вдумчивого, даже если книга не нравится. Роман ли, ученый трактат, философское рассуждение или журнальная критика — все должно было прочитываться равно внимательно, не ради одного удовольствия, но для расширения кругозора. Прочитанное учили запоминать — не столько содержание, сколько умные мысли и красивые выражения, которыми можно было при случае щегольнуть в разговоре. О прочитанном учили высказывать свое суждение, именно не письменно, по школьным канонам, а устно, развивая память и способность ясно и правильно говорить. Если мнения учеников расходились, возникала полемика, приучавшая к спорам о серьезных материях и нередко прививавшая остроумие. Такая система не рождала ненависти и отвращения к прочитанному и была высоким достижением русской воспитательной школы, созданной, правда, в основном иностранцами, но с учетом требований страны (точно так, как русская архитектура восемнадцатого — начала девятнадцатого века создалась иностранцами и все равно оказалась непохожа ни на одну другую — размах не тот). В Англии того времени, например, детей заставляли зазубривать тексты, а к чему это приводило, прекрасно показал Байрон, под словами которого могут подписаться и многие нынешние ученики:
Счастье Байрона, что в его время в английских школах не изучали родную литературу, иначе, возможно, проникшись к ней ненавистью, великий поэт не написал бы ни строчки! В России, напротив, старались привить любовь к книге. А тот, кто обучен неповерхностному к ней вниманию, сможет продолжить занятия, уже выйдя из-под опеки учителей, и самостоятельно приобрести сведения, понадобившиеся ему во взрослой жизни.
Подобное воспитание вполне достигало поставленной цели: из классных комнат выходили люди, пригодные для самой различной деятельности. Из одного выпуска закрытого учебного заведения, где дети с первых дней воспитывались и учились сообща, могли выйти поэт и музыкант, моряк и военный, дипломат и журналист. Учителя развивали ум детей, не забивая им головы знаниями, поэтому они легко впитывали те сведения, которые получали уже в годы службы. И поэтому так легко меняли род деятельности: поэт мог стать ученым, военный — философом, драматург — дипломатом. Притом талант их равно проявлялся в столь несхожих сферах.