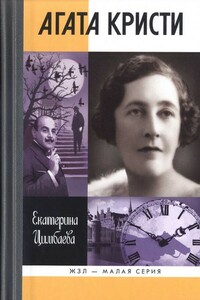Грибоедов | страница 42
Но Грибоедов был, когда хотел, тверд. Тотчас он послал в собрание записку, настаивая на своей болезни и требуя врачебного освидетельствования. Присланного врача владимирской управы Невианда он убедил найти у него серьезное недомогание, и тот показал, что Грибоедов «по застарелой цинготной болезни не только оной, но и никакой другой должности исправлять не может». Лекарь едва ли сумел бы объяснить, как можно довести себя до цинги, тем более «застарелой», не на корабле в кругосветном плавании, не в голодном крае, а в сельской России, на простой и здоровой пище. Но опровергать его диагноза не стали, съесть несколько лимонов Грибоедову не посоветовали, а просто махнули на него рукой, от должности отстранили, и впредь семья и друзья его жены о нем не думали и никогда не поминали.
Единственным утешением Настасье Федоровне было общение с сестрой Лачиновой, небогато жившей во Владимире и родившей в 1795 году дочь Варвару. Сестры не смогли даже побывать на свадьбе брата, после нескольких лет рассеянной жизни женившегося вновь — на соседке, Анастасии Семеновне Нарышкиной.
Женившись на Нарышкиной, Алексей Федорович попал в очень знатное семейство. Нарышкины были в родстве с царями, а отец Анастасии Семен Васильевич и ее дядя Алексей Васильевич пользовались расположением покойной императрицы. Оба были не только богаты и в высоких чинах, но превосходно образованы, писали стихи. Во время путешествия Екатерины по Волге, когда государыня со свитою взялась от скуки переводить роман Мармонтеля «Велисарий», Алексей Васильевич перевел две его главы. Позже он стал членом Императорской российской академии. У него детей не было, а дочери Семена Васильевича получили лучшее воспитание, говорили по-французски и итальянски, могли читать по-немецки и даже по-английски, пели и музицировали. Анастасия Семеновна внесла в московскую семью Грибоедовых петербургский великосветский тон, который немного задевал сестер Алексея Федоровича.
В первый год после свадьбы Алексей Федорович привез молодую жену в Хмелиты и остался там на зиму, поскольку своего дома в Москве теперь не имел, снимать не хотел, а купить или уехать на сезон в Петербург не мог — его начинали донимать кредиторы. Приходилось изворачиваться, перезакладывать деревни, выжимать деньги с оброчных крестьян. Наследство, доставшееся ему от отца, было значительно уменьшено выплатой приданого сестрам. Долги же, как и расходы, выросли. Но не только долги удерживали Алексея Федоровича в провинции. На престол в 1796 году взошел император Павел — и жизнь дворян перестала доставлять им удовольствие. Как ни печален был закат екатерининского царствования, но с восшествием Павла о его матери вспоминали со скорбью. Все вольности дворян новый монарх отменил. В Петербурге положительно невозможно стало находиться. Велено было, при встрече с каретой императора, выходить из экипажа, несмотря ни на какую грязь, и низко кланяться по этикету. Только дамам позволялось кланяться с подножки. Не то плохо, что грязно, но как-то унизительно это выходило. В Москве были другие печали: император приказал закрыть Английский клуб, словно рассадник якобинства, и карточная игра переместилась в частные дома и велась почти тайком. Даже в деревню проникало всевидящее царское око. Отныне на спектаклях домашних театров — даже благородных — обязательно требовалось присутствие полицейского пристава для наблюдения за благонадежностью. И скрыться было некуда: за границу выезжать запретили, даже книги запретили ввозить. И если случайно доходили до дам сведения о новых французских и английских модах, оставалось только расстраиваться: моды Павел тоже запретил под угрозой ссылки в Сибирь.