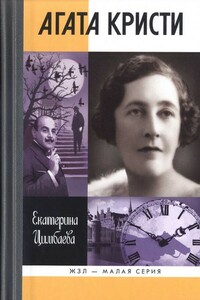Грибоедов | страница 35
Последним утешением стали слезы. Оплакивая чужие страдания, забываешь собственные. Сентиментальная, чувствительная литература хлынула потоком. Герои новых песен и повестей томно вздыхали, рыдали, а при развязке то и дело кончали жизнь в пруду или иначе. Зачинателем этой моды стал Карамзин, но долго она не продержалась.
Вера в жизнь не умерла вместе с верой в разум. До революции молодые люди слишком хорошо умели радоваться жизни, чтобы потерять к ней вкус из-за душевных разочарований. Поэзия самоубийств оказалась им совершенно чужда. Если разобраться, события Французской революции мало кого коснулись, и крах разума поразил только тех, у кого он прежде пользовался почтением. Алексей Грибоедов в эти тяжелые годы был занят своими бедами. Вернувшись из армии, он влюбился в милую и томную соседку, княжну Александру Одоевскую, и женился на ней в апреле 1790 года. В следующем году, родив дочь Елизавету, его жена умерла. Оставаясь в деревне во все время траура, Алексей Федорович с горя ввязался в давнюю тяжбу с соседом Лыкошиным по поводу постройки приходского храма в имении последнего. Борьба была тем упорнее, чем бессмысленнее. И на сей раз, не в пример отцу, Грибоедов проиграл. В отместку соседу он выстроил неподалеку от Хмелит Александровскую церковь в новом стиле — круглую, окруженную колоннадой. Служба там почти не проводилась, и вся затея была пустой, зато препирательство с Лыкошиным и сочинение прошений в Синод отвлекли несчастного вдовца.
Сестры его еще легче приняли произошедшие перемены. О политике они и не думали, но с удовольствием прочли чувствительную историю о «Бедной Лизе», и так как были тогда молоды и своих горестей у них не было, то и поплакали над печальной судьбой влюбленной поселянки и всех последовавших за ней «Бедных Маш», «Саш» и прочих. Они совершенно поверили Карамзину и, как многие московские барышни, начали ездить к пруду у Симонова монастыря, куда бросилась с отчаяния Лиза. Не только девицы, но и солидные мужи весьма одобряли карамзинские повести. Всем хотелось плакать, но приличнее было плакать над выдумкой, чем над правдой жизни.
Даже те, кто не читал ничего, кроме придворного адрес-календаря, осознавали, что общество изменилось. Настало «время молчати». Неопытные юноши и немолодые люди, многое пережившие, отступали бессильно перед новыми веяниями. Сам великий Державин, еще недавно яростно клеймивший недостойных «властителей и судей», делая вид, что всего лишь переводит псалом Давида, хотя бы и ставший гимном якобинцев: