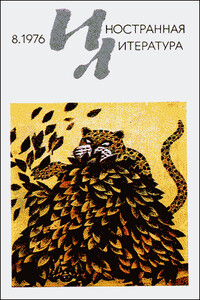Черная любовь | страница 12
V
Бог свидетель, я ценил любовные письма! Одно время я собирал коллекцию: у меня было одно письмо Флобера к одной молодой особе из Круассе, которую он называет «ангелом» и целует ей «хорошенькие ручки, хорошенькие ножки и все остальное», и даже письмо, написанное Аполлинером Лу которое начинается:
О прелестнейшая лесничиха,
Погубившая лесника,
И какому коту мурлычется
У тебя на груди, на руках?
— за него я отдал целое состояние. А продал я его из-за Летиции. Кажется, из-за нее я его и купил — ведь ничто не доставляет такого удовольствия, когда любовь достигает некоторого опасного накала, как знать, что ты не один, и находить успокоение в чужих любовных излияниях. Итак, я потреблял в огромном количестве греческие эпиграммы и письма самураев. Арабские любовные вирши также весьма привлекали меня «щеками, как розы» и «глазами газели». (В этом жанре либо подобные слова, либо непристойности. Любовная литература всегда колеблется между слишком цветистой метафорой и «пизда — жопа — хуй»; я предпочитал метафору.) На Западе — от Абеляра до писем к Лу, Кастору или Эльзе — история любовной эпистолярной литературы не столь богата. Я помню, что в особенности сожалел о великой лакуне, соответствующей усовершенствованию телефона и длившейся по крайней мере до изобретения телефакса, сети Минитель и Интернета, которые вернули небольшой шанс письменному общению. Не говоря уже о недолговечности этих интимных листков — достаточно вспомнить трагический поступок Мадлен Жид, которая сожгла письма Андре, считавшего их самыми прекрасными своими произведениями.
Я же почти не писал. Не то чтобы у меня не хватало желания, но, когда она жила со мной, и я оставлял ей записки, даже какие-нибудь три строчки утром перед уходом, я понимал потом, что Летиция их не читает, кроме самых коротких, самых утилитарных. И каждый раз, когда она уезжала от меня — а ведь эта ситуация особенно настраивает на письменные излияния, — она старалась, вероятно опасаясь активности с моей стороны, держаться подальше от факсов.
И все-таки однажды я написал ей письмо. Я сохранил его копию, не потому что горжусь им (клянусь, тогда я не питал подобных литературных претензий), но потому, что оно достаточно точно передает, до чего я дошел с ней, и потому, что это письмо — ирония судьбы — было написано всего за несколько часов до ее самого долгого исчезновения, по крайней мере, до нашего расставания на десять лет, и я долго считал его эпитафией нашей любви.