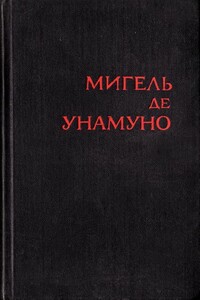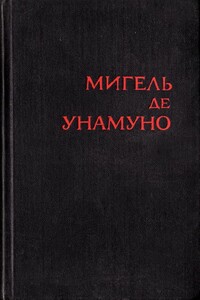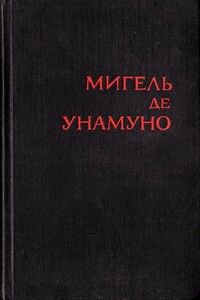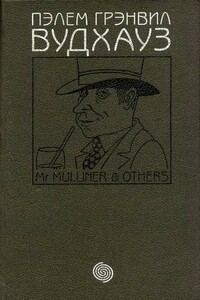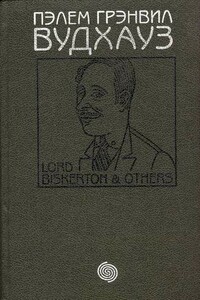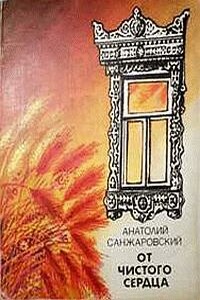«Святой Мануэль Добрый, мученик» и еще три истории | страница 28
– Значит, в другом оно?
Дон Мануэль опустил голову:
– Да нет, Ласаро, оно тоже в этом, потому что два царствия есть в этом мире. Вернее, другой мир… Ладно, я сам не знаю, что говорю. А что до разных там синдикатов, это в тебе – отголоски твоего прогрессистского периода. Нет, Ласаро, нет; дело религии не в том, чтобы разрешать в этом мире экономические и политические тяжбы, которые Бог отдал людским распрям. Какого бы образа мыслей ни держались люди, как бы они ни поступали, главное – чтобы они утешились в том, что родились на свет, чтобы жили, насколько могут, с чувством довольства и в иллюзии, что во всем этом есть какая-то цель. Не мое дело – подчинять бедных богатым либо проповедовать бедным, чтобы они подчинялись богатым. Смирение и милосердие – всем и для всех. Ведь богатому тоже нужно смириться и с богатством, и с жизнью, а бедному тоже нужно быть милосердным с богатым. Социальные вопросы? Оставь их в покое, нас они не касаются. Ну, образуется новое общество, в котором не будет ни богатых, ни бедных, в котором богатство будет распределено по справедливости и все будет принадлежать всем, – а что дальше? Тебе не кажется, что общее благоденствие лишь породит в усиленной степени отвращение к жизни? Я знаю, один из вождей социальной революции сказал, что религия – опиум для народа. Опиум, опиум… Опиум и есть. Так дадим же ему опиума, и пусть спит и видит сны. Я и сам им живу, вся эта моя отчаянная деятельность – не что иное, как дозы опиума. И все равно мне трудно уснуть хорошо и еще труднее увидеть хороший сон… Вечно это наваждение! Я тоже могу сказать вместе с божественным Учителем: «Душа Моя скорбит смертельно». Нет, Ласаро, нет; ни-каких синдикатов по нашей подсказке. Вот если сами они создадут синдикат, будет, на мой взгляд, очень хорошо, потому что им будет развлечение. Пусть играют в синдикат, если игра доставляет им удовольствие.
Восемнадцатая
Вся деревня заметила, что силы дона Мануэля идут на убыль, что он стал уставать. Даже в голосе его, в этом голосе, который сам по себе был чудом, появилась какая-то внутренняя дрожь. По любому поводу на глазах у него выступали слезы. Особенно когда он говорил народу о другом мире, о другой жизни, – временами ему даже приходилось останавливаться, и он молчал, закрыв глаза. «Да ведь он уже видит все это», – говорили деревенские. И горше всех в эти минуты плакал Бласильо-дурачок. Он и вообще теперь больше плакал, чем смеялся, и даже смех его звучал плачем.