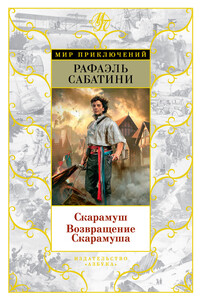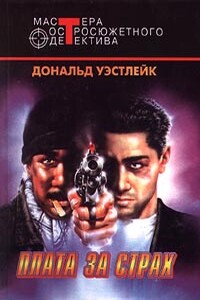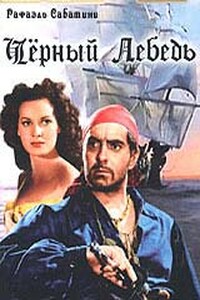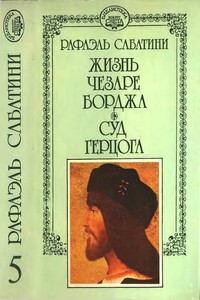Вокруг Света 1991 № 11 (2614) | страница 37
Эпизод этот, примечательный сам по себе, я привел вот почему. Когда мне попалось донесение Лихачева, вспомнился давний рассказ отца об истории русского военно-морского — Андреевского — флага. История, по-моему, очень любопытна. Вот вкратце ее смысл.
На первом своем морском военном корабле «Святые пророки» Петр I поднял — как российский морской флаг—именно перевернутый голландский — «крабес» (Забытая аббревиатура. Как и русский «бесик» (белый, синий, красный)). Однако ведь подъем всякого перевернутого флага означал, что корабль терпит бедствие: Продолжая поиски морского флага, Петр все чаще обращался к образу греческого синего креста. Корабли, осаждавшие Азов, уже несли на мачтах белые флаги с «косицами» и голубым греческим крестом. Но и такой флаг не удовлетворял Петра. Он снова возвращается к перевернутому голландскому, добавив голубой косой крест на белое поле. Но и этот вариант не был последним.
И вот однажды, уже глубокой ночью, сидя за столом перед чистым листом бумаги и раздумывая о флаге, Петр задремал. Разбудил его яркий луч утреннего солнца, упавший сквозь промерзшее окно на белый лист. Луч, преломившись, изобразил на бумаге две голубые пересекающиеся косые линии —подобие креста, на котором был распят Святой Андрей. Петр, счел это откровением свыше и тотчас же нарисовал Андреевский флаг. И написал на рисунке: «Зане святой Андрей Первозванный землю русскую светом Христова учения просвети». С выходом в устье Невы корабли русские уже гордо несли на стеньгах новый Андреевский флаг. И не спускали его свыше двухсот лет...
Но вернемся на «Светлану». Ровно полтора года фрегат, а с ним и Николай Рыков проплавал на Дальнем Востоке. Наконец, 20 октября 1861 года, «по изготовлении вверенного мне фрегата в обратное плавание в Россию, — записал в рапорте новый командир, капитан 2-го ранга Иван Иванович Бутаков, — оставил Вусунгский рейд и следую в Манилу и Батавию для собрания сведений относительно доставки в Кронштадт ценных лесов и особенно тику».
В Батавии (Джакарте) застали судно из Любека, груженное 70-ю пушками, предназначенными для Владивостока. На судне, разумеется, не оказалось карт Владивостокской бухты. Их вообще еще не печатали. Чтобы ускорить доставку пушек, Бутаков распорядился выдать людскому шкиперу имевшиеся на «Светлане» рукописные карты, составленные по последним описям.
На обратном пути капитан Бутаков решил замкнуть кольцо — вернуться в Европу не через Индийский, а через Тихий океан. «Хорошо познакомившись с отличными качествами фрегата, несмотря на то, что путь, мною избранный, гораздо более пути через мыс Доброй Надежды (тогда ни Кильского, ни Панамского, ни даже Суэцкого каналов еще не существовало.— В.Р.), я надеюсь, — писал Бутаков,— прибыть в Кронштадт к ранней весне».