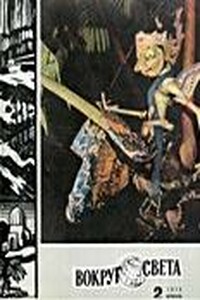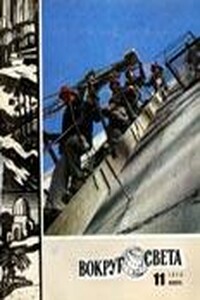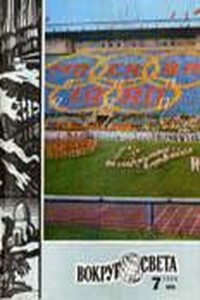Вокруг Света 1980 № 01 (2472) | страница 58
Е. Сыроечковский. К проблеме охраны природы причастны практически все виды человеческой деятельности. Причем не только в плане хозяйственно-экономическом, но и социальном, правовом, политическом, даже философском. Поэтому сам термин «охрана природы» представляется не то чтобы устаревшим, но, в силу чрезмерной традиционности, не отражающим всей сути дела.
Сама жизнь, по Ф. Энгельсу, подразумевает «постоянный обмен веществ с окружающей... природой». Обмен. А следовательно, и какое-то ее видоизменение. И вероятно, правильнее говорить не об охране как таковой, а об рационализации природопользования. Такая рационализация, безусловно, подразумевает сохранение каких-то, иногда достаточно обширных, территорий в предельно заповедном, не нарушаемом прямым вмешательством человека виде.
Прямым вмешательством. Я нарочито подчеркиваю строгость этой формулировки. Потому что, хотим мы этого или нет, но заповедников, абсолютно не подверженных воздействию человека, сегодня уже нет и быть не может. Флора и фауна заповедников дышит единой, ныне существующей на планете атмосферой. Потребную им влагу они черпают опять-таки из единого гидросферного «бассейна». Их микроклимат, пусть очень опосредствованно, но тоже является производным нашей энергетики, — они облучаются не только солнцем, но и электромагнитными импульсами бесчисленных радиостанций.
Все это на редкость сложно взаимоувязано. Обратимся опять-таки к «Диалектике природы»: каждое достигнутое изменение может вызвать непредвиденные последствия, зачастую способные «уничтожить значение» тех, которые были нам желательны. Думаю, что не случайно это положение научного марксизма не раз привлекало внимание наших лучших фантастов.
«Аэлита» и «Туманность Андромеды» — это как бы две вехи на литературном пути развития «космической социологии». А между ними и после них — десятки произведений, в которых с большей или меньшей художественностью воссоздавались модели планет и целых миров, загубленных экологической безграмотностью их обитателей.
И если поверить все эти допущения мерилом современных научных знаний, то можно сказать весьма определенно: всего этого, конечно, не было нигде. Но такое вполне возможно в задаваемых авторами условиях. Социальное развитие, основанное на техническом прогрессе, не может игнорировать экологических закономерностей. Реальное состояние ноосферы (вводя этот термин, В. И. Вернадский не оговаривал возможность наличия недоброго разума, но она, к сожалению, существует), в свою очередь, прямо зависит от социальных основ общества, от его политического уклада.