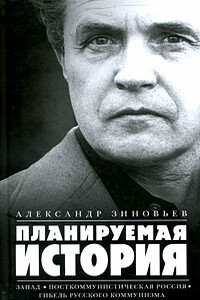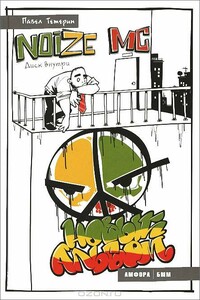Нашей юности полет | страница 60
Но вдруг меня осенило: месть! Надо мстить! Кому? Им! За что? За себя! За страдания близких. За все!
Я изложил свое замечательное открытие своему сообщнику.
— У меня нет к Ним ненависти, — сказал он. — Я Их презираю, а из презрения мстить невозможно. Они по отдельности слишком ничтожны для мести. А все вместе Они воплощают в жизнь самые светлые идеалы человечества. Мстить некому!
Оставь дурацкие затеи. Мир не изменишь все равно. Нелепо драться за идеи, Осуществленные давно.
Долг
— Так ты тоже был пилотяга? — спросил я, уловив в речи моего компаньона выражения из авиационного жаргона.
— Нет, — сказал он, — я всего лишь воздушный стрелок.
Мы стали вспоминать войну. Я рассказал, как погиб мой воздушный стрелок, а он — как погиб его командир.
— Мы штурмовали железнодорожный узел, — говорил он. — Уже кончили работу, как шальной снаряд залепил нам в мотор. Машина загорелась. Но высота была небольшая, и командир успел посадить ее в мелколесье. Едва я успел вытащить из кабины потерявшего сознание командира (ему раздробило ноги) и оттащить в сторону, как машина взорвалась. Из соседней деревни пришли немцы, покачали головами и ушли: они, очевидно, решили, что мы взорвались вместе с машиной.
Командир пришел в себя. Хотел застрелиться, но я отобрал у него пистолет. До линии фронта было совсем недалеко. Я решил попытаться выйти к своим и вытащить командира. Сделал нечто вроде саней. Впрягся в них. И поволок свою тяжелую ношу. Целых семь дней волок. Что это были за дни, лучше не вспоминать. Когда мы все-таки чудом выбрались, смотреть на нас приходили со всей дивизии.
Но дело не в этом. Командир не думал, что выживет. И перед смертью решил раскрыть мне свою душу, исповедаться. И начал говорить такое, что в первую минуту я сам хотел пристрелить его как предателя. Я ведь был комсомольским активистом. Был комсоргом полка. Рано вступил в партию. Сталин был для меня богом. Все, что касалось нашей истории, идеологии, генеральной линии партии, было для меня святыней. Я никогда не был доносчиком. Когда при мне заводились сомнительные разговоры, я честно и открыто пресекал их. А командир рассказывал о том, что потом, после хрущевского доклада, стало восприниматься как преступления «периода культа личности». Я сам знал о многом из того, что говорил командир. Но я считал это все справедливым и исторически необходимым. И помалкивал, как все. Преступлением тогда был сам тот факт, что об этом говорилось вслух и что это интерпретировалось как преступление.