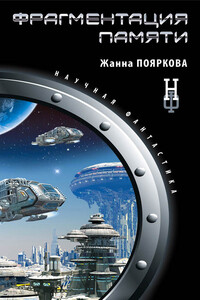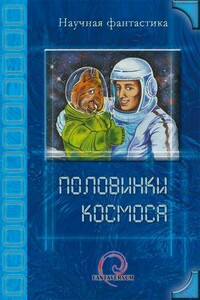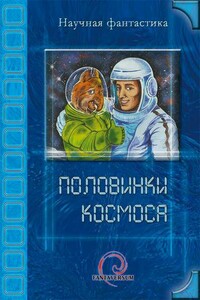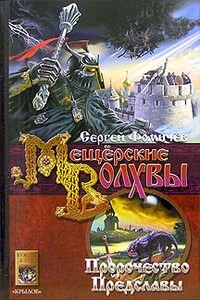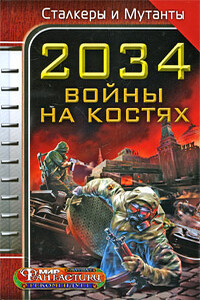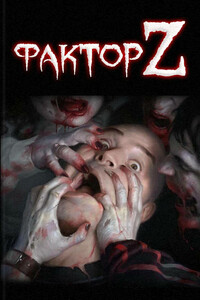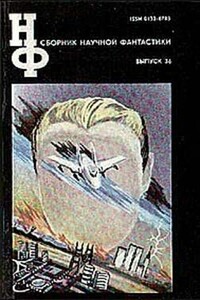Яблони на Марсе | страница 92
Противники радовались победе недолго: оказалось, что накопленный потенциал противодействия стал работать против них. Началась череда экономических кризисов. Попытки же окончательно разделаться с самым большим по территории государством на Земле ни к чему не привели. Социологические институты, уже давно собаку съевшие на идеологических войнах, только руками разводили — было нечто объединяющее у народов, проживающих в новой Российской Федерации.
«Учи русский язык, — говорил Бобу отец, еще помнящий дедов дом в пригороде Варшавы. — Поймешь образ мыслей этого народа. А он — парадоксален. Язык отражает смешанность в русском сознании культур Европы и Азии: есть в нем и санскрит, и тюркские корни, германские, латинские, греческие. Разнородное смысловое богатство речи определяет образ мыслей. Там, где правильно мыслящий тот же грек видит один выход из проблемы, русский находит пять или шесть лазеек. В синонимах все дело, в их количестве на каждое определение!»
Чем больше младший Стравински изучал русскую культуру, тем больше он убеждался в правоте отца. В России, неважно какого строя, шамкающий сгнившими зубами подвыпивший дворник мог рассуждать с копающимся в двигателе машины орнитологом о роли мировой литературы, а министр культуры считал за честь отплясывать гопак на дне рождения шестилетней дочери в банкетном зале Пушкинского музея. И примеры эти — в пределах нормы, не курьеза.
«Дикари!» — скажет любой цивилизованно мыслящий человек.
«Взгляните на то, что творят эти дикари», — ответит ему Стравински.
Русские никогда не могли стоять у конвейера — им становилось скучно. Они, даже косоглазые, не совсем азиаты. Если нужда работать и заставляла, то по трезвости рабочие выдвигали рацпредложения, «как енту хрень с полподвыверта обточить».
Но если дело касалось чего-то уникального и штучного, здесь с «дикарей» стоило брать пример, хотя следовало учитывать, что даже голубоглазые — они не совсем европейцы. «Что русскому хорошо, то немцу — смерть». И пример, обходясь без лишней рекламы, брали, поскольку в деле освоения космоса «советы» весьма преуспели.
Начало было положено соперничеством двух инженерных гениев, Королева и фон Брауна: каждый из них мечтал попасть на Марс. История космической гонки совпала с холодной войной. Американцы, постоянно проигрывая в сроках, поднапряглись и высадили человека на Луну. Победа оказалась пиррова — русские раньше конкурентов поняли, что делать на спутнике нечего. Американцы, наивно полагая, что и здесь они в фаворе, стали налаживать производство систем многоразового использования. Русские лишь усмехались — умыкнув еще на старте проекта у противников лекала, они посчитали, что космопланы просто не оправдывают себя: для их дорогого использования нет цели. Хотя все же один свой подобный корабль запустили — всего лишь для того, чтобы испытать отдельные узлы с компонентами да компьютер, автономно управляющий полетом. IBM-совместимое человечество предпочло не заметить наличия цифровых супертехнологий у «дикарей».