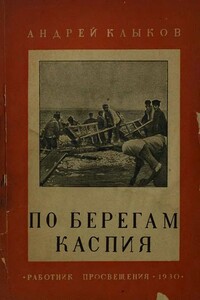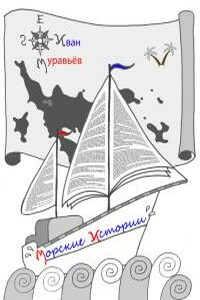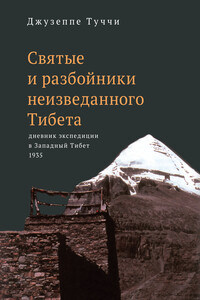Вокруг Света 1976 № 10 (2433) | страница 54
Переглянувшись и чуть заметно улыбаясь друг другу все четверо, приплясывая, двинулись в обход круга углей, оранжево сиявшего живым огнем. По мелким головешкам время от времени пробегали змейки розового пламени. Метра три отделяли меня от кромки круга. Лицо пылало от жара. На лбу выступил пот. Что чувствовали танцоры, кружившие менее чем в полуметре от огня, — утверждать не смею. Но свидетельствую: угли были самые настоящие, неподдельные.
Долго, очень долго звучала музыка. Невыносимо долго скользили по кругу плясуны, едва слышно касаясь утрамбованной земли босыми ногами. И внезапно — хотя все этого ожидали, тем не менее совершенно внезапно — старший из группы, коренастый пожилой мужчина с серебряным ежиком волос, спокойно ступил на огонь. У меня что-то окаменело в груди, схватило дыхание. В толпе ахнули...
Здесь я хочу сделать некоторое отступление и попытаться заглянуть в прошлое. Обряд хождения по огню — не такое уж редкое явление у народов мира. Известны индуистские культовые празднества подобного рода, распространен этот обычай был в Японии, Китае, на островах Фиджи. Описывали его и древнегреческие, и римские писатели. Например, у Вергилия в «Энеиде» есть такие строки:
Бог, величайший из всех, Аполлон, хранитель Соракта!
Первого чтим мы тебя, для тебя сосновые бревна
Жар пожирает, а мы шагаем, сильные верой,
Через огонь и следы оставляем на тлеющих углях!
Из европейских стран, пожалуй, только в Болгарии сохранилось до наших дней «огнехождение», которое носит название «нестинарства». Можно предположить, да и то без особой гарантии, что попало оно сюда через Малую Азию, и, во всяком случае, корни его следует искать в зороастрийской религии древнего Ирана, религии огнепоклонников. Однако когда проник в Болгарию этот обычай, как именно связан с языческими культами — ответы на эти вопросы до сих пор не выходят за рамки гипотез. Гипотез много, порой они противоречат друг другу, поэтому приведу здесь лишь самые интересные.
Греки?
Откуда пошел термин «нестинарство»? Есть мнение, что источник его — греческое слово — «эстиа», то есть «очаг». А занесли его сюда греки, поселившиеся в давние времена в колониях Ахтополь и Василико (ныне Мичурин). Но если поставить проблему так: откуда к самим грекам пришло поклонение огню? — то особой ясности здесь добиться не удастся. Это может быть собственно средиземноморский культ, перекочевавший сюда либо из Южной Каппадокии, где греческие жрицы-огнепоклонницы славили богиню Перасию-Артемиду, либо из. Этрурии, где в честь древнеиталийекого божества Вейовиса жрецы-гирпы шествовали босиком по пылающим бревнам на вершине горы Соракта, близ Рима. Но может быть и чисто восточное наследство. Болгарский писатель Славейков, впервые описавший нестинарство в 1866 году, утверждал, что слышал из уст «ходящих по огню» странные слова — не греческие, не болгарские, не фракийские. Например, слово «пазана» явно было родным братом новоперсидского «pazhana» — «жареный», во всяком случае, и то и другое имели в основе персидский корень «pez». Но говорили на необычном диалекте именно греки, греки-нестинары.