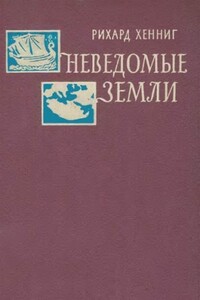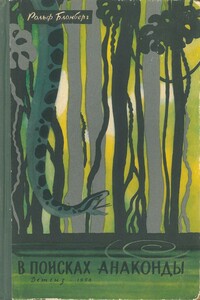Вокруг Света 2008 № 10 (2817) | страница 42
Где плавать опасно?
Акты пиратства во все времена случались практически повсюду в Мировом океане, где только ходили корабли. Но тем не менее можно говорить об акваториях, где разбой по политическим, экономическим или даже религиозным причинам достигал особого размаха. Как правило, это были зоны с идеально подходящей для набегов географией — изрезанное побережье, лабиринты из островов, укромные бухты, обилие мест, где легко сбыть награбленное. Ну и, конечно, там «надлежало» проходить важным торговым путям, а сильным «полицейским» флотам, наоборот, отсутствовать.
В начале истории такие разбойничьи «нарывы» естественным образом возникали прямо в «солнечных сплетениях» цивилизаций — египетской, финикийской, индийской, китайской…
Цитадель мусульманского пиратства в XVI— XVII веках: порт Сале на территории современного Рабата в Марокко. Фото: INTERFOTO/VOSTOCK PHOTO
Античные сочинения ( Геродота , Фукидида, Плутарха, Страбона…) содержат множество фактов о «первом классическом» периоде пиратства — на всем Средиземном море с VIII века до н. э. по V век. Процветало оно здесь и в Средневековье, и в начале Нового времени. И это неудивительно — на стыке трех частей света, в условиях непрекращающихся войн торговых держав, а впоследствии — противостояния христианского и исламского миров черному промыслу было куда развиваться. Естественно, и христиане, и мусульмане считали доблестью нападать на суда и порты друг друга. Особенно активно таким богоугодным делом занимались рыцари-госпитальеры, известные в XIV—XVI веках также как родосские (по их основной базе на Родосе), а еще позже, с «переездом» на Мальту, — как мальтийские. От них, впрочем, не отставали и члены братства Святого Стефана, основанного в 1562 году тосканским герцогом Козимо Медичи — корсарский флот этого ордена совершенно открыто базировался в Ливорно.
Имелись «свои» каперы — арабы и турки — и у мусульман. Эти выходили в рейды из многочисленных убежищ Магриба — марокканского порта Сале, Алжира, Бона (Аннабы), Бужи (Биджайи), ливийского Триполи, тунисской Ла-Гулетты и с острова Джерба.
При этом часто политика государств становилась над интересами веры: с XVI по XVIII век разбой североафриканских корсаров нередко поддерживал не только турецкий султан, но и короли Франции.
Второе крупное скопление европейских пиратских флотилий сформировалось на Балтийском и Северном морях в VIII—XI веках — в знаменитую эпоху викингов . Изначально так называли в Скандинавии участников дальних походов «за добычей и славой». Другие же народы присваивали им иные имена. В Англии, например, они назывались данами (от слова «датчане» — ими считали здесь всех северных пиратов), во Франции — норманнами, а на Руси — варягами (вероятно, от древнешведского varingr — «связанный клятвой»). Одно время эти разбойники представляли собой главную силу во всех водах нашего континента, никто не мог и помыслить о сопротивлении викингам. Жертвами их грабежей становились даже большие города — Лондон, Париж (легкие разбойничьи флотилии поднимались вверх по Сене), Гамбург, Нант, Бордо, Севилья, Пиза. Исконный страх перед таким врагом сохранился даже в западноевропейской молитвенной формуле «Боже, избави нас от неистовства норманнов». Позже, в XIV—XV веках, тут успешно орудовали ликеделеры, известные также под именем братьев-витальеров («кормильцев»). «Друзья Бога и враги всего мира» — был их странный девиз.