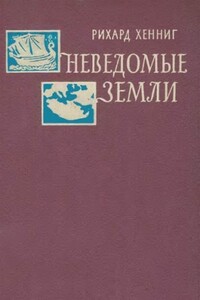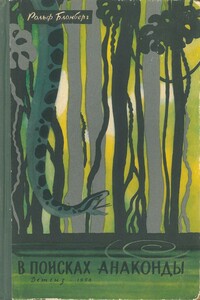Вокруг Света 2008 № 10 (2817) | страница 37
Рис. Антона Батова
Романтический миф о морских разбойниках уже лет 200 постоянно подогревался фольклорной традицией, приключенческой литературой и кинематографом и настолько вошел в сознание, что теперь почти невозможно разглядеть за ним такое непростое социальное явление, как пиратство.
Корсары, флибустьеры, рейдеры, каперы, ликеделеры, витальеры, гёзы, ускоки, приватиры, форбаны, вако… Одно только перечисление этих терминов свидетельствует: феномен пиратства очень неоднороден. В разные исторические эпохи, в разных географических областях, у разных племен и народов в течение нескольких десятилетий, на расстоянии десятков километров пиратство видоизменялось, приспосабливаясь к обстоятельствам места и времени.
Происхождение слова «пиратство» связывают с греческим глаголом «peiran», то есть «пробовать», «пытать счастья». Латинское же «pirata», означавшее именно морского разбойника, появилось в римскую эпоху. По определению словаря пиратом может быть признан любой человек, занимающийся грабежом на море или на побережье, высадившись на него с каких-либо плавсредств. В качестве синонима «пирату» часто приводят слово «корсар». Но на самом деле корсары (они же каперы или приватиры) — не разбойники. Эти «морские партизаны» тем и отличались, что были своего рода диверсантами на государственной службе, охотились за трофеями лишь с разрешения официальных властей, которые выдавали им соответствующие лицензии — на право грабежа неприятельской собственности (так называемые каперские свидетельства). Как эффективное средство ведения войны на море каперство возникло в Европе на рубеже XIII—XIV веков, когда государства не имели больших военных флотов. И уже тогда от него не было спасения...
Но вернемся к пиратам. Невозможно точно сказать, где и когда они появились впервые, но то что морской разбой может быть назван одной из первых древнейших профессий — это несомненно. То был бич торгового мореплавания и в Древнем мире, и в Средневековье, и в Новое время. Даже в наш постиндустриальный век пираты успешно орудуют на линиях сверхсовременного судоходства в Юго-Восточной Азии, Западной Африке, у берегов Сомали… Каковы же социальные корни этого ремесла, кто объединялся и объединяется в разбойничьи братства? Да кто угодно: беглые рабы, каторжники и кабальные слуги; дезертиры или уволенные со службы моряки и солдаты; несостоятельные должники, разорившиеся крестьяне, ремесленники, мелкие торговцы и дворяне; люди, преследуемые по политическим или религиозным мотивам; авантюристы и уголовники. Заметим, что не только голодный желудок и обиды на несправедливый порядок привлекали гонимых и отверженных смельчаков в пиратские банды. Их ряды пополнялись и за счет людей вполне обеспеченных, даже аристократов, но попросту жестоких или желавших приумножить свое состояние за счет грабежа — он на протяжении истории, бывало, считался делом вполне благородным. Так, Плутарх в жизнеописании Гнея Помпея (106—48 годы до н. э.) имел повод отметить: «Когда римляне в пору гражданских войн сражались у самых ворот Рима, море, оставленное без охраны, стало мало-помалу привлекать пиратов и поощряло их на дальнейшие предприятия... Уже многие люди, состоятельные, знатные и, по общему суждению, благоразумные, начали вступать на борт разбойничьих кораблей и принимать участие в пиратском промысле, как будто он мог принести им славу и почет».