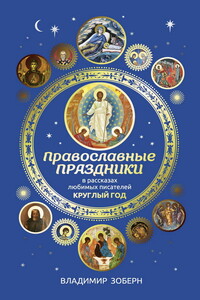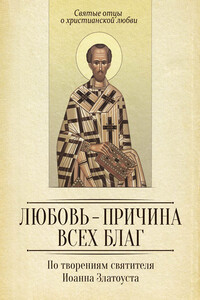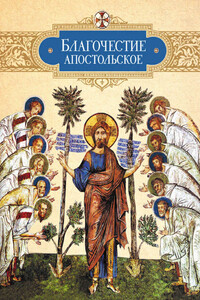Избранные богословские статьи | страница 74
Изучение истории всегда включает в себя оценку. Пытаясь избегать оценок, историк искажает и искривляет само повествование. И неважно, идет ли речь о греко–персидских войнах или о второй мировой войне. Истинный историк не сможет не встать на одну из сторон: за «свободу» или против нее. В самом его рассказе будет слышаться пристрастие. Истинный историк не сможет остаться в стороне от противостояния добра и зла, какие бы хитроумные софизмы не скрадывали разницу между ними. Истинный историк не сможет пребывать холодным и равнодушным, услышав вызов и призыв истины. Противоборства и напряжения — одновременно и исторические факты, и экзистенциальные ситуации. Даже отказ есть своего рода утверждение, зачастую весьма решительное, сопровождающееся упрямой настойчивостью. Агностицизм внутренне догматичен. Нравственное безразличие может только исказить наше понимание человеческой деятельности, всегда направляемой определенным нравственным выбором. К тому же результату приводит безразличие разума. Человек, поступая так или иначе, совершает экзистенциальный выбор — поэтому и историк не может обойтись без выбора.
Поэтому историк — именно как историк, то есть истолкователь реальной жизни людей в пространстве и времени — не может избежать ответа на величайший и важнейший вопрос истории: Кого Мя глаголют человецы быти? (Мк. 8, 27) Это действительно решающий вопрос для историка — ведь он изучает человеческое бытие. Остаться глухим к подобному вызову — уже предвзятость. Отказ отвечать на вопрос — тоже ответ. Воздержание от суждения — само по себе суждение. История, избегающая вопроса о Христе, ни в коей мере не «нейтральна». С этим центральным вопросом историк сталкивается не только при создании «Die Weltgeschichte», «Всемирной истории», то есть при истолковании судьбы человечества в целом, но и в процессе исследования любого исторического периода и отрезка, ибо этот вопрос пронизывает всё человеческое бытие. Ответ историка предрешает направление его работы, выбор мер и ценностей, само понимание природы человека. Его ответ предопределяет сферу рассмотрения, контекст и перспективу, в которой он будет исследовать человеческую жизнь, а также меру его чуткости. Ни один историк не должен заявлять, что он создал «окончательную интерпретацию» великой тайны человеческого бытия во всём его многообразии и сложности, низости и величии, двойственности и противоречивости, в его изначальной «свободе». Не должен претендовать на это и христианский историк. Но он вправе утверждать, что его приближение к тайне целостно и «кафолично», что его взгляд соответствует ее невероятной глубине. Он должен отстаивать это право на деле, в служении своему ремеслу и призванию.