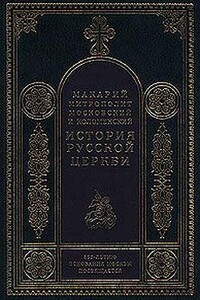Избранные богословские статьи | страница 46
лось серьезным пороком. Но работа эта должна быть для общей цели и общего пользования. Так было уже в ранних общинах св. Пахомия в Египте[31]. Св. Пахомий проповедовал «евангелие постоянного труда». О нем правильно сказано: «Общий вид и жизнь монастыря св. Пахомия не могли сильно отличаться от жизни хорошо отлаженного колледжа, города или лагеря» {Kirk. The Vision of God). Большое значение проблеме социальной перестройки придавал и великий законодатель восточного монашества, св. Василий Кесарийский и Каппадокии[32] (ок. 330–379). Он с глубоким опасением следил за процессом социального разложения, которое в его время было столь явственным. Таким образом его призыв к созданию монашеских общин был попыткой возродить дух взаимности в мире, который, казалось, утерял всякое понятие о социальной ответственности и сплоченности. В его понимании человек есть по существу «животное общительное» (koivovikou zоо»6), «не дикое и не любящее одиночества». Он не может осуществить цель своей жизни, не может быть подлинно человеческим, если не живет в общине. Монашество поэтому — не высшая степень совершенства для немногих, а серьезная попытка дать жизни человека правильное направление. Христиане должны были показать образец нового общества в противовес разлагающим силам, действовавшим в распадающемся обществе. Истинная сплоченность может быть достигнута в обществе только через единство цели, подчинением всех индивидуальных забот общему делу и интересу. В известном смысле это был социалистический эксперимент особого рода на добровольной основе. Само послушание должно быть основано на любви и взаимной привязанности, на свободном осуществлении братской любви. Весь упор делался на корпоративность человеческой природы. Индивидуализм является поэтому саморазрушающим.
Как ни удивительно это может показаться, такой «киновийный» образ жизни считался в это время обязательным для всех христиан, «даже состоящих в браке». Возможно ли было построить все христианское общество как своего рода «монастырь»? Св. Иоанн Златоуст, великий епископ царствующего града Константинополя (ок. 350–407) без колебаний отвечал на этот вопрос утвердительно. Это не значило, что все должны уходить в пустыню. Наоборот, христиане должны были воссоздать суще599
ствующее общество по «киновийному» образу. Златоуст был совершенно уверен, что все виды общественного зла коренятся в духе стяжательства человека, в его эгоистическом желании обладать предметами для своего исключительного пользования. Но законный владелец всех вещей и имений в мире только один: Всемогущий Господь. Люди — лишь его исполнители и слуги, и они должны употреблять ложные Божие дары исключительно в божественных целях, т. е. прежде всего для общих нужд. Понятие Златоуста о собственности было строго функциональным: обладание ею оправдывается только ее правильным употреблением. Конечно, Златоуст не был социальным или экономическим реформатором, и практически его предложения могут казаться скорее неубедительными и даже наивными. Но он был одним из величайших христианских пророков социального равенства и справедливости. В его призыве к любви не было ничего сентиментального. И действительно, христианская любовь — совсем не просто харитативная эмоция. Христиане должны не просто быть тронуты страданиями, нуждой и убожеством других людей. Они должны понимать, что социальные беды являются продолжением мучений Христа, все еще страждущего в лице членов Своего Тела. Нравственная ревность и пафос Златоуста коренилась в ясном видении Тела Христова.