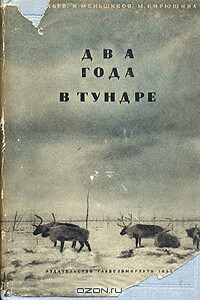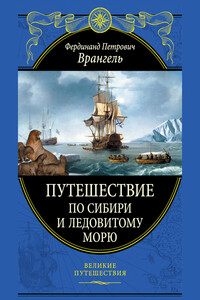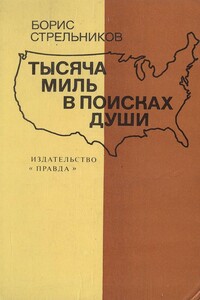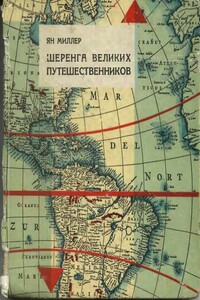Вокруг Света 2009 № 09 (2828) | страница 54
Иосиф Сталин по психотипу был, по всей видимости, типичным древнеримским императором. Он твердо верил: рабский труд — это действенное и эффективное средство разрешения любых экономических проблем. К примеру, в 1938 году, возражая против досрочного освобождения зэков за ударный труд, он заявил: «Мы плохо делаем, мы нарушаем работу лагерей. Освобождение этим людям, конечно, нужно, но с точки зрения государственного хозяйства это плохо…» По некоторым оценкам, на НКВД приходилось 3% валового национального продукта СССР.
Началось дело с больших водных путей. Тучи гулаговцев, объединенных в трудовые армии, были брошены на Беломорканал имени Сталина, канал имени Москвы и Волго-Дон имени Ленина. Первое из этих сооружений единовременно строили около 100 000 «каналоармейцев» и, как и положено в кровавых битвах, почти половина из них погибла. Тогда же дело дошло до железных дорог на труднопроходимых Дальнем Востоке и Севере. Трансполярная и Печорская магистрали, Кольская железная дорога, линия Караганда — Моинты — Балхаш, БАМ (линия Тайшет — Лена) — все они тоже усеяны могильниками. Зэки же возвели тоннели на Сахалине и второй путь Транссиба.
Затем подошла очередь гидроэлектростанций — Волжской, Жигулевской, Угличской, Рыбинской, Куйбышевской, Усть-Каменогорской, Цимлянской. Позже лагерная масса поднимала целые города. Комсомольск-на-Амуре, Советская Гавань, Магадан, Дудинка, Воркута, Ухта, Инта, Печора, Находка... Рабы ГУЛАГа добывали уголь в Караганде и на Печоре, полиметаллические руды в Норильске, намывали золото в Магадане, не говоря уже о лесоповале и сельском хозяйстве…
Но скоро непосредственному лагерному руководству стало ясно: Сталин зря так верит в «экономику ИТЛ». Уже в 1941 году начальство ГУЛАГа осторожно докладывало: «Сопоставление себестоимости сельскохозяйственной продукции в лагерях и совхозах НКСХ СССР — показало, что себестоимость продукции в лагерях значительно превышает совхозную». Но делать было нечего. Иного способа эффективно колонизовать необъятные просторы не представлялось. Вообще, свободная колонизация и тоталитарный режим — вещи несовместные. То есть, конечно, освоение многих ныне процветающих земель начиналось подобным образом: туда ссылали каторжан. Та же Австралия — классический пример. Но там «народ ссыльных» довольно быстро поглотился новыми волнами уже свободных поселенцев, привлеченных кто чем — и золотой лихорадкой, и просто обилием совершенно свободных земель для овцеводства. В России же и до 1917 года великие просторы Дальнего Востока и Севера осваивались почти исключительно по приговору суда. Небольшое число добровольцев можно «обнаружить» только во времена Столыпинских реформ, но Первая мировая поставила крест на всех перспективах.