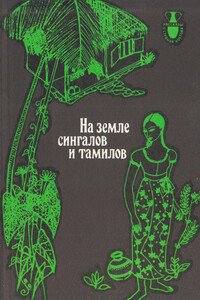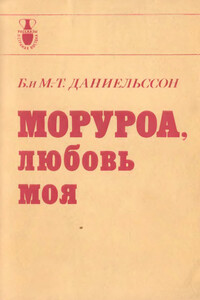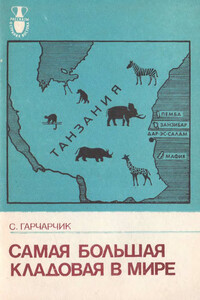Вокруг Света 1988 № 07 (2574) | страница 13
Во время сброса воды машина может оказаться во власти воздушных ям или нисходящих воздушных потоков, которые способны сбросить лихого наездника на землю в раскаленные угли. Кроме того, возникают мощные вихри в результате выброса больших масс воды.
— В этот момент надо быть крайне осторожным,— рассказывает Грело.— Ты как будто попадаешь в воронку, спускаешься все ниже и ниже, скорость становится все меньше. При 180 километрах в час самолет на грани потери управления, и надо немало потренироваться, чтобы испытать себя в подобных ситуациях. А если забарахлил мотор — все, труба! Особенно на Корсике, где рельеф неровный, пилообразный, полон долин и узких проходов. Нередко после такого полета приходится выковыривать еловые иголки из крыльев.
Затем следует не менее сложная операция по забору воды. Устройство «канадэра» таково, что он полностью заполняет резервуары водой за десять секунд. Операция производится на скорости НО километров в час, и ему достаточно водной полосы длиной 2 тысячи метров. В море «канадэр» берет воду, ориентируясь против ветра параллельно волне, но стоит появиться встречной, как носовую часть накрывает плотная пена. Самолет может клюнуть пару раз и зарыться носом вниз. У пилотов это называется «очутиться под маринадом». Так, например, случилось в 1977 году с одним «канадэром» в бухте Сагон неподалеку от Аяччо. Самолет утонул почти сразу. К счастью, экипажу удалось выбраться через окна. Пилоты готовятся к таким перипетиям. Они делают тренировочные погружения в специальной клетке.
Работу пилота «канадэра» легкой не назовешь. Но, несмотря на большой риск, несчастные случаи на базе в Мариньяне крайне редки — за двадцать лет всего шесть.
Поговаривают, что в скором времени «канадэры», возможно, получат отставку, уступив место более совершенным аппаратам с реактивной тягой. Такие проекты уже есть. Но всякий раз, когда мне случается пролетать вблизи французского побережья, я внимательно вглядываюсь, не стоят ли где-нибудь на летном поле желто-красные «пеликаны», стерегущие огонь. Они еще работают.
По материалам зарубежной печати
В. Соловьев
Пусть камень не рассыплется в прах
Этого дня ждали все на протяжении почти девяти лет. Дня, когда начнется вывод советских полков из Афганистана. Ждали и мы. Наперебой звонили мне Бобур Алиханов с Узбекского телевидения, Василий Яцура с Украинского радио, редактор «Крымского комсомольца» Михаил Цюпко, Мерген Аманов с Туркменского телевидения... Звонили мои товарищи-журналисты, с которыми я в конце декабря прошлого года восемь дней находился в Афганистане. Конечно, это совсем малый срок, чтобы полностью прочувствовать и испытать все жестокие премудрости «караванной» или «минной» — ее называют по-разному — войны, однако все же достаточный, чтобы понять и узнать наших ребят, выдернутых из благополучной и беззаботной жизни и вынесших на своих мальчишеских плечах все тяготы боевых испытаний, физического и нервного напряжения, потерю друзей на далекой от Родины земле. Когда я листаю записные книжки, не в первый уже раз просматриваю фотографии, на которых запечатлены десятки усталых и улыбающихся лиц наших солдат, фронтовые пейзажи, мирные будни городов и кишлаков, меня не отпускает мысль о том, что на нас всех тоже лежит обязанность запомнить эту войну, и наших советских воинов — живых и сложивших свои головы в «горах Афгани». Об этом же говорили мне по телефону и мои товарищи. Вспоминая дни, проведенные там, я пишу только о том, что увидел и узнал тогда, в конце декабря 1987 года...