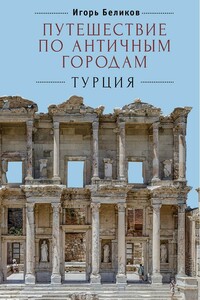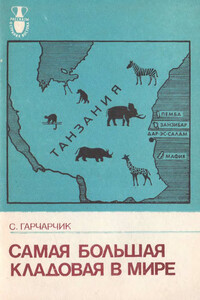Вокруг Света 1989 № 09 (2588) | страница 11
Хочется вообще понять, откуда пошли разговоры о замкнутости и заскорузлости староверов. Не будучи богословом, трудно оценивать теологические глубины разногласий, которые в XVIII веке привели русскую церковь к расколу. Но ведь с тех пор каких только течений, толков и согласий не возникло в традиционном старообрядчестве: беспоповцы и беглопоповцы, темноверцы, которые при богослужении гасят даже лампады, и песочники, которые при крещении используют не воду, а песок... Этот религиозный динамизм может говорить о чем угодно, только не о заскорузлости сознания. Неужто традиционное представление о замкнутости староверов сложилось из-за того, что они отказывались есть из одной посуды с кем бы то ни было? Гостям подавали особую посуду, которую отмывали потом не в избе, а в проточном ручье, и ниже по течению скотину не поили. Говорил же Ромен Роллан, что люди прощают все, только не отказ есть с ними из одной чашки...
Но поднимемся над рефлексами, станем на медицинскую точку зрения. Этой незримой гигиенической стеной старообрядческая семья ограждала (и оградила) себя в непредсказуемых обстоятельствах изгнания, на каторжных этапах, в местах, где от повальных болезней вымирали села и улусы. Современный человек обязан понимать рациональный смысл самых причудливых обычаев. Иначе можно бездумно оборвать корни тех традиций, которые обеспечивают выживание народа, или постыдно исказить его духовный облик. Как можно говорить о «национальной ограниченности русских раскольников», если их семейные реликвии — янтарь, с которым познакомились они еще в первом изгнании то ли у латышей, то ли у литовцев, если спят они не на перине, а по монгольскому обычаю на войлоке и под одеялом из бараньих шкур, если в речи их слышится то по-белорусски твердое «давчонка», то приветливое обращение «талаша» (от бурятского «тала» — приятель, кунак)?
Мать Нади, Агриппина Яковлевна, сама, между прочим, солистка Большекуналейского семейского хора, настойчиво пытается увести разговор от пения и песен. «Забота важнее таланта»,— повторяет она. И все понимают почему. Дочь кончает школу. Собирается «в музыкальный». Риск велик. Рафинированным музыкантам многое в ней может показаться «не той экзотикой». Ну а если поступит? Как она, выросшая в семейской деревне, приноровится к нивелирующему быту современного города? Что будет значить там ее умение вести дом в большой семье, доить коров, печь хлебы?.. Чем обернется незнание, к примеру, нотной грамоты? Конечно, за нею будут семья, наследственная жизнестойкость, трудолюбие и привольное детство, которое навсегда остается в сердце человека, как золотой запас энергии и оптимизма. И все-таки слова Агриппины Яковлевны по-своему объясняют, почему даже в самые яркие моменты праздника нет-нет да и вспыхивало в моей душе щемящее чувство тревоги. Жизнь уже не во всем совпадает с песней. И не будем преувеличивать устойчивость народного обычая. Культурную традицию надобно поддерживать, как огонь в очаге.