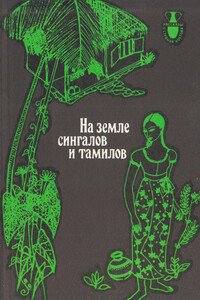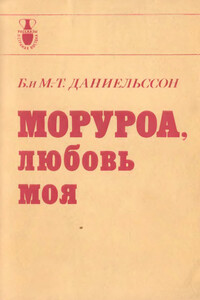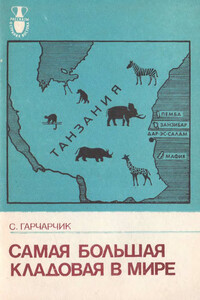Вокруг Света 1989 № 03 (2582) | страница 33
— Алтай — это невскрытая сокровищница, говорил Рерих. Известный востоковед Радлов считал, что невозможно выяснить происхождение древнейших обитателей края. Но он ошибался, уважаемый историк. Я — из древнего рода кипчаков,— заявляет Евгений Модестович,— и я выяснил свое происхождение. Мы, кипчаки, входили в состав гуннов, мы подчинялись Тюркскому каганату, А потом князь Мстислав Удалой выгнал нас в казахские степи, а потом мы оказались на Алтае.— Он задумывается на мгновение и начинает загибать пальцы.— Так, будем считать эпохи. Под кем находились и кому подчинялись алтайцы. Тюркский каганат — раз, Уйгурский каганат — два, период киргизского великодержавия — три, «эпоха конского устрашения» (монголы) — четыре, майманское иго — пять, китайское иго — шесть, джунгарский контайша — семь, царское правительство — восемь. И так — тысяча триста лет!
— По-вашему выходит, что до 1917 года над Алтаем и солнце не всходило?
Чапуев охотно принимает шутку:
— Всходило, еще как всходило! Русскую колонизацию я не считаю игом. Никогда алтайцам не жилось так легко, как с русскими. Да, гнет был, налоги платили — но не было унижения национального достоинства. Из Бийска приезжал становой пристав, его торжественно принимали, угощали, поили, соболей давали в придачу. Вот и все иго!.. А русские кержаки-старообрядцы! «Града настоящего не имеем, а грядущую взыскуем»,— говорили они. Кремень-народ! Разве его можно сбрасывать со счетов? Старообрядцы пришли к нам в конце XVIII века, и приняли их почти как своих. В жилах алтайцев и сейчас течет кержацкая кровь. Русские привили нам вкус к земледелию, а мы их учили пастбищному скотоводству. Русские пришли с топорами и показали, как строить большие жилища, а мы их учили охоте, ореховому и травному промыслу... В нашей истории очень крутой замес кровей, культур, языков.
Я поделился с Евгением Модестовичем своими сомнениями: очень трудно постичь характер алтайца.
— И никогда не постигнете, так что имеете право на ошибку,— успокоил он меня с добродушной улыбкой.— Тысяча триста лет под иноземным ярмом — это ведь не шутка! Память человеческая коротка, но в памяти подсознательной, генетической все хранится очень и очень долго. Вот почему алтайцы — самый покладистый, мягкохарактерный народ. (Ох, встретиться б ему с химиком-майманом!) А песни какие у нас? Жалующиеся, печальные. Женщины лишнего слова сказать боятся. (А я слышал от Н. И. Шатиновой, декана историко-филологического факультета пединститута, что алтайская женщина как личность занимала более высокое положение в семье, чем у русских.) У каждого подспудно живет мысль: не будь лучше меня и не старайся занять места более высокого, чем мое. На чужой род наговаривают больше, чем тот того заслуживает. И одновременно — очень добрый народ, доверчивый, приветливый. В алтайских диалектах и наречиях нет слов, которые бы соответствовали русским значениям «вор» или «замок». Алтаец никогда не скажет «стой!», а произнесет вежливое «ондо тур» или «тох-то» — «остановись». Ни в литературе, ни в устных преданиях и сказках нет ни одного эпизода, где бы мужчина убил женщину. Это считается страшным грехом... Наш народ — как спящая почка, ему надо помочь раскрыться. И хорошо, что в последние годы наметился поворот к алтайскому языку, алтайской культуре... Я не уверен, что историк Чапуев вылепил полный портрет своего сородича. Здесь сколько людей, столько мнений. Скорее всего это несколько штрихов к познанию национальной психологии, национального характера, который находится в развитии, постоянной эволюции.