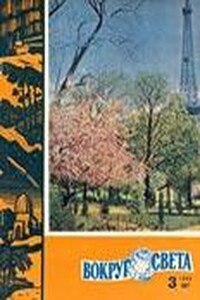Вокруг Света 1990 № 11 (2602) | страница 11
— Предатели! Вы предаете музей!— гремел он, когда кто-нибудь из ценных работников хотел уходить с работы. Он был очень вспыльчив, но отходчив.
Иногда его голос становился тихим, вкрадчивым, и нам казалось, что над головой у него вырастает нимб. Это означало, что ему очень хотелось заполучить какую-либо вещь... «Это бы музею не помешало»,— скромно говорил он.
...Трудился он по 16—18 часов в сутки. За долгие годы — ни одного отпуска для отдыха, только длительные поездки для сбора вещей и картин. Игорь Витальевич практически жил в музее. Дважды отдавал квартиры, которые ему предоставляли, своим сотрудникам. Любил ходить по музею рано утром, восхищался: «Смотрите, как играют краски на полотнах при утреннем освещении...»
...В музее он нередко и печи топил, и экспонаты чистил. Зарплата его обычно лежала в столе, все это знали. Он говорил: «Берите, если нужно». Музей покупал его полотна и акварели, и вырученные деньги Савицкий пускал на ремонт или заказывал рамы для картин.
...Когда Игорь Витальевич лежал в больнице в Нукусе (он был очень больным человеком), мы ему графику ящиками носили: он делал опись листов.
...За глаза мы звали его «Боженькой». Он знал свое прозвище и, похоже, был доволен. Нам казалось, что он может все. Было в нем какое-то детское неприятие препятствий. Все, что задумывал, ему удавалось. И в какие ведь времена!
Слушая коллег Савицкого, я подумала: а может, он уехал из Москвы не только потому, что полюбил искусство Каракалпакии и ее природу? Может, он бежал из Москвы, подальше от «шариковых», управлявших культурой, чтобы, скрывшись за рамками национального искусства, иметь возможность действовать самостоятельно? Ведь не случайно Савицкий говорил: «Никогда в другом месте и в другое время я не создал бы такой музей...»
Мариника дала мне посмотреть книгу Савицкого, изданную в Ташкенте за год до открытия музея. Называлась она «Прикладное искусство каракалпаков. Резьба по дереву».
Как внимательно и, я бы сказала, осторожно входил он в неведомую ему ранее область — чужую культуру. В книге впервые опубликовано более пятисот орнаментальных композиций, приложен словарь терминов, из которого я, к примеру, узнала породы деревьев, растущих на территории Каракалпакии, и их названия на каракалпакском языке; наухан —: шелковица, согит — ива амударьинская, карагай — сосна и так далее. И очень о многом говорят пестрящие на страницах сноски типа: «Баймурат Жусупов (р. 1889 г.) из рода Ктай аралбай — потомственный резчик по дереву, плотник, делает юрты. Проживает в лесхозе Ходжейлинского района». Скольких же мастеров выявил, обошел и записал Савицкий! Его интересовала не только технология работы плотника (профессии резчика как таковой в Каракалпакии не было — резьбой занимался плотник, который умел делать из дерева все), но и детали быта, жизни мастера. Вот, например, строки из патии — наставления, которые произносил мастер на праздничном тое в честь окончания обучения ученика: «Ты был моим учеником, а теперь должен быть хорошим мастером. Делай все, что заказывают, и дорого не бери. Если сделаешь хорошо, придут еще. Счастливого пути!»