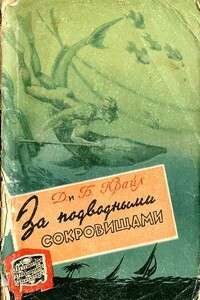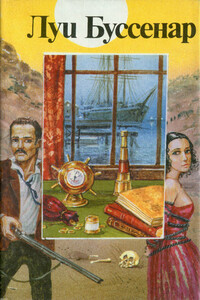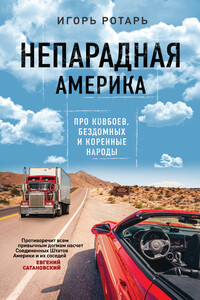Вокруг Света 1995 № 08 (2659) | страница 32
Балуева разрешила мне совершить небольшую экскурсию по этой галерее портретов. Вот люди из древнего Сунгиря под Владимиром, обосновавшиеся там после ухода ледника двадцать пять тысяч лет назад. Рядом с ними — люди бронзового века, бесстрашные воины как с дикой природой, так и с себе подобными. В эпоху раннего металла получил довольно широкое распространение массивный «древнеевропеоидный» тип лица. Такие люди встречаются и сегодня: по неведению мы можем счесть их «потомками неандертальцев», хотя на самом деле их череп имеет современное строение.
Здесь скифы-европеоиды и представители родственной кочевой культуры — сарматы Прииртышья с сильной монголоидной примесью. Семиреченские саки. Кушанская царевна из погребения I века до н.э. Тилля-Тепе на севере Афганистана. Лицо ее европеоидно, но голова дынеобразна — она была сдавлена в детстве повязками по кочевому центральноазиатскому обычаю, сдавлена до такой степени, что корону царевны вначале приняли за игрушечную — не налезала даже на кулак. Кстати, Татьяна Сергеевна Балуева воссоздала череп царевны из кусочков...
Тут славяне разных племен — из-под Белоозера и со Старой Рязани. Славяне послемонгольской эпохи — и ошибался Александр Блок — нет, глаза-то у них, может, и жадные были (и руки загребущие, как доказала история), но не узкие, не азиаты они... Зато по соседству и вправду азиат, но не чисто монгольский тип — это сам грозный Тамерлан. Чуть подальше — восстановленный Герасимовым византийский лик Ивана Грозного, в жилах которого текла кровь коварных греческих императоров. Казачий атаман Сирко, исследователь Камчатки Крашенинников... А вот и совсем близко к нам: у самого выхода из «галереи» стоит бюст старого скуластого карела — это Архиппа Перттунен, он же Архип Пертуев — один из основных рунопевцев «Калевалы» в прошлом веке. Он не похож на финнов-суоми; типичный финн — скорее, сам собиратель эпоса, академик Петербургской Академии Элиас Леннрот, запечатленный прижизненно...
— А теперь обещанная встреча... — Татьяна Сергеевна приглашает меня пройти в ее рабочую комнату.
Передо мной на подставке — лицо пазырыкской «принцессы», его мечтал я увидеть на Алтае, и мое желание исполнилось...
...В то утро над Чуйской долиной голубело чистое небо, и лишь вершины отдаленных Курайских гор на востоке были покрыты прозрачными облачками. Автобус, полный темнолицых алтайцев, быстро мчался на север по знаменитому Чуйскому тракту к Горно-Алтайску. Вдалеке проплывали снежные цепи гор, к самой дороге подступали живописные ущелья, их сменяли треугольные, покрытые снизу доверху горными лесами склоны, они расступались долинами, в которых скрывались поселки. Некогда по трудной верховой тропе, вдоль реки Чуй, ходили караваны отчаянных «чуйцев» — купцов из Бийска, торговавших с Монголией и Китаем. И лишь на заре нашего столетия при помощи динамита была проложена проезжая дорога, облегчившая связь с отдаленными районами Алтая.