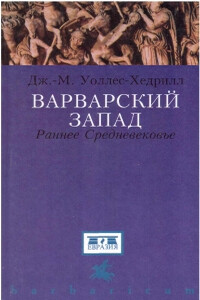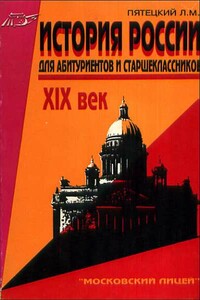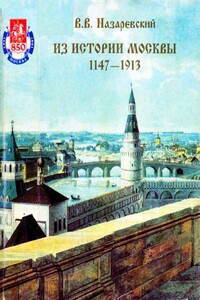Книга об отце | страница 35
Но для отца академический инцидент был гораздо сложнее; принципиальный вопрос оставался неразрешенным. То, что делало его одиноким в стане академиков и отделяло от их среды, не изменялось с революционной переменой власти. Поэтому в ответ на письмо Овсянико-Куликовского он писал:
"Дорогой Дмитрий Николаевич.
Не знаю, найдете ли Вы в себе столько христианского незлобия, чтобы не сердиться на меня за такое запоздание с ответом на Ваше письмо. Произошло это от многих более или менее уважительных причин. Одна из них продолжающееся нездоровье, другая - вытекающая отсюда нерешительность. Наконец, третья - неопределенность положения, из которого требуется выход. {65} Вот видите ли, дорогой Дмитрий Николаевич, в чем дело. Вышел я из Академии не потому, что царь не утвердил избрания Горького. Это его, т. е. бывшего царя, дело. При прежнем строе на всем его протяжении кто-нибудь кого-нибудь не утверждал: губернаторы - одних, министры - других, цари третьих. Это было тогда их формальное право, и это приходилось терпеть всей России. Экстренной обиды в пользовании им, требующей особого протеста, не было. Вспоминаю по этому поводу один эпизод, который запал мне в память отчасти в связи с нашим делом. В прошлом веке берлинская Академия избрала в свои члены проф. Зибеля. Император этого избрания не утвердил. Когда академики выразили по этому поводу свое соболезнование, то Зибель ответил: "О, это беда небольшая. Было бы гораздо печальнее, если бы выбрал император, а Академия не утвердила".
Такая же малая беда случилась и с Горьким, и если бы о неутверждении было объявлено обычным порядком "от высочайшего имени", то я, как и другие, просто принял бы это к сведению. К сожалению, это было объявлено не от царя, а от самой Академии: в "Правительственном] в[естни]ке" было сказано, что мы выбрали Горького, не зная, что он находится под политическим дознанием. А узнав, выбор отменяем. Это было сделано так бесцеремонно, что у нас даже не спросили, желаем ли мы брать на свою ответственность эту царскую функцию неутверждения. Это уже была "беда", и только против этой бесцеремонности я и протестовал. Царь мог не утверждать сколько ему угодно, но я не желал, чтобы он прикрывал неутверждение моим именем.
Вот в чем было дело и почему я сложил с себя звание почетного академика. Согласитесь, что будет непоследовательно с моей стороны, если я аннулирую эту причину моего ухода и соглашусь войти в "Отдел", после того как история аннулировала самого царя [...] {66} Мне, поверьте, очень неприятен весь этот эпизод, потому что я питаю глубокое уважение к личному составу "Отдела словесности". Но принципиальное разногласие может выйти и у людей, взаимно друг друга уважающих, а тут у меня были именно принципиальные соображения. И право, я не вижу, почему я должен идти с ними в Каноссу и вновь стучаться в двери, из которых ушел добровольно, по причине, которую считаю основательной..." (Д е р м а н А. Цит. соч., стр. 60-61.).