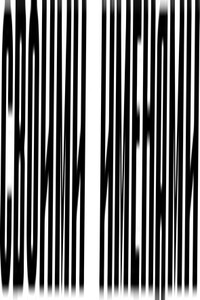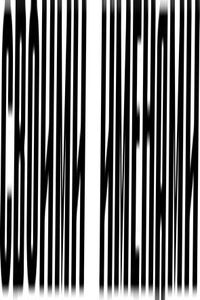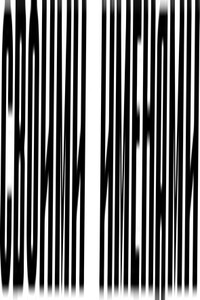Газета "Своими Именами" №49 от 04.12.2012 | страница 78
Шафаревич снова поднимает лозунг: национальные союзные республики жили за счёт РСФСР, и узбекский колхозник жил в 9 раз богаче русского. Это узбекский-то крестьянин, гнувший спину на хлопковых полях, отравленных дефолиантами? Впрочем, известные льготы производителям дефицитной продукции действительно полагались. Зато теперь “русские патриоты” могут радоваться: Узбекистан живёт не за счёт России, и ивановские фабрики стоят из-за отсутствия хлопка.
Ну а теперь о самой деликатной стороне русского вопроса. Да, вожди КПСС, говоря о русской истории, часто имели в виду то, что происходило после 1917 г., потому что политика Романовых была антирусской, антинародной, нацеленной на европеизацию нашей страны. Нет, не всякое соприкосновение с русской исторической традицией болезненно воспринималось коммунистическим режимом. Известно, что Сталин высоко ценил, например, деятельность Ивана Грозного (которого Шафаревич, как и вся русская интеллигенция, считает злодеем, а народ почему-то слагал песни, прославлявшие царя, сумевшего укротить антинародное боярство). Болезненно были восприняты статьи и книги В.В.Кожинова (за упоминание “Слова о Законе и Благодати” митрополита Илариона), Ю.И.Селезнёва (за традиционную для интеллигенции апологию самых реакционных идей Достоевского) и других упоминаемых академиком авторов. Не за то, следовательно, критиковали этих китов “патриотизма”, что они восстанавливали историческую преемственность, а за то, что восстанавливали преемственность не с тем, с чем ощущал свою преемственность авангард народа. Конечно, для интеллигента-почвенника Достоевский выше Христа, но много ли в народе, среди рабочих или крестьян, найдётся поклонников творчества этого писателя? Какие шумные кампании ни проводились по внедрению достоевщины в массы, они кончились ничем, и такое положение вряд ли когда-нибудь изменится.
Для Шафаревича упоминаемая им статья Яковлева - эталон антипатриотизма. У меня к Яковлеву претензии по поводу его предательства идеалов социализма и в связи с его деятельностью по развалу СССР, но то, что он подметил главный порок “русистов”, ностальгию по “справному мужику”, это совершенно справедливо. Русский крестьянин после гражданской войны почувствовал себя творцом истории, человеком, перед которым были открыты все пути к вершинам науки, культуры, власти, и его идеалом стал совсем не “справный мужик”, всецело погружённый в хлопоты ради процветания собственного хозяйства и ради этого готовый захомутать своих же односельчан в батраки. Ведь сам Шафаревич отмечает, что у сотен тысяч русских коммунистов была одна программа: “бей кулака!” Не Сталин выдвинул этот лозунг, его выдвинула сама жизнь. А если писатели не рискнули высказать сочувствие “справному мужику”, то это характеризует их не с лучшей стороны. Сумел же, например, Шолохов высказать сочувствие своему герою “Тихого Дона”, хотя и не оправдывал его позиции. Так распорядилась история, по-человечески её жертвы заслуживают сочувствия, но не “справный мужик” оказался её героем.