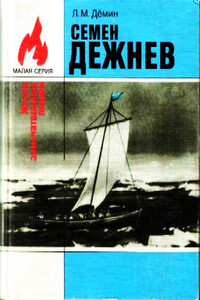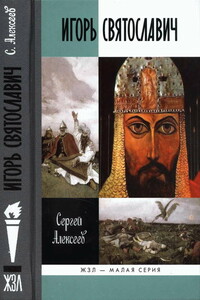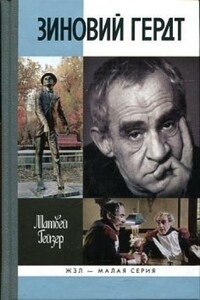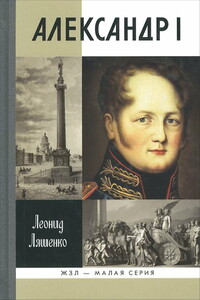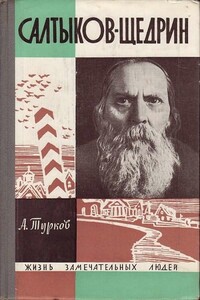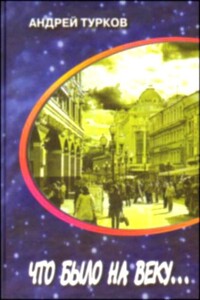Александр Твардовский | страница 26
В его одиночестве не было ничего особенного и тем более показного. Легко было заметить, что Твардовский просто намного старше всех этих говорливых юнцов и девиц. Ему было тогда 27 лет».
По свидетельству одного из ифлийских преподавателей, философа Михаила Александровича Лифшица, с которым поэта вскоре связала тесная дружба, Твардовский «заметно выделялся в массе слушателей». Отнюдь не только по возрасту, но и по серьезному отношению к учению, что отмечают и другие мемуаристы. Его семинарская работа о Некрасове была оценена как одна из лучших. Позже ставился вопрос о ее публикации, осуществленной уже после смерти поэта (он, в соответствии со своим характером, этому противился, считая написанное «школярской работой, с простительной для школяра претензией на нечто»).
Не остался незамеченным его интерес к «Житию протопопа Аввакума». (Десятилетия спустя в разных драматических ситуациях он нередко вспоминал и повторял знаменитое, скорбное и стойкое: «…ино еще побредем».)
Вспоминают об ощущавшейся в Твардовском уже тогда «большой скрытой силе», самостоятельности суждений, которые он не колебался отстаивать, даже рискуя порой показаться собеседнику «консервативным» и «старомодным».
«Это был подчас ершистый, колючий, иронический человек, трудный для самого себя, но очаровательный в минуты радости и редкой удовлетворенности сделанным и достигнутым, — пишет часто не соглашавшийся с Александром Трифоновичем и тогда, и впоследствии поэт и переводчик Лев Озеров. — Конечно, он знал себе цену, у него было сложное чувство собственного достоинства, которое некоторым казалось гордыней, „шляхетской“ неприступностью».
В эту пору у Твардовского завязываются новые дружбы, которые пройдут через всю жизнь.
— Ну, представь себе, — рассказывал он Л. Озерову, — ты приезжаешь издалека, у тебя еще не напечатанная в центре поэма, обстоятельства твоей жизни смутны, и ты не знаешь еще, на каком ты свете. И вот в вестибюле, возле гардероба, к тебе подходит человек, известный тебе по портретам и намного старше тебя, и говорит, не то спрашивая, не то восклицая: «Вы Твардовский?» — «Да, — отвечаю, — Твардовский». Он переспрашивает несколько раз: «Вы Твардовский?» — «Да», — говорю. Он… целует меня в лоб, обнимает и говорит: «Я давно ждал появления такого поэта, и вот вы пришли».
То был Самуил Яковлевич Маршак, совершенно восхищенный «Муравией».
Твардовский же по характеру своего детства, которое, по его словам, «вообще обошлось без детской литературы и слишком далеко отстояло своими впечатлениями от специфически городского мира маршаковской поэзии для детей», оценил ее «высокое мастерство» много позже, сначала став великим почитателем его переводов, особенно из Роберта Бёрнса.